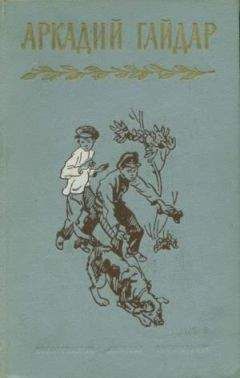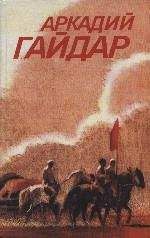и нажал кнопку фонического аппарата, вызывая квартиру.
Через несколько минут послышался ответный гудок и потом вопрос:
— Я слушаю! Кто у телефона?
— Дежурный по курсам. Вас просят по городскому от начальника гарнизона.
— Сейчас приду.
Вскоре послышались шаги, вошел Сорокин и направился к телефону.
— Алло! Я слушаю. В чем дело?
— Дело в том, что вы арестованы, — проговорил подходя Ботт.
А Владимир твердо положил руку на кобуру его револьвера.
Генеральское лицо начальника побагровело от бессильной злобы, и он понял, кажется, что игра его проиграна, но темные точки направленных на него наганов заставили его отказаться от мысли о сопротивлении. Он ни о чем не спросил, не поинтересовался даже о причинах такого внезапного ареста, а только процедил негромко:
— Что же! Пусть пока будет так!
Его отвели в крепкую камеру бывшего карцера и к дверям и к окну выставили надежные парные посты.
Всю ночь не спали наши товарищи. Долго Ботт говорил с кем-то по телефону, потом отсылал захваченные бумаги с прискакавшим откуда-то верховым. Квартиру обыскали еще раз. Помимо всего там нашли еще тщательно завернутую новенькую генеральскую форму и двадцать пар блестящих, вызолоченных, на разные чины, погон.
— Точно целую армию формировать собирался.
— Кто ж его знает! Разве не из этого же теста были слеплены Деникины, Каледины и прочие спасатели отечества.
Наступало утро.
Из генеральской квартиры ребята перетаскали лучшую мебель в небольшую светлую комнату возле коридора, занимаемого семьями комсостава. Вышло очень недурно.
— Это для Эммы.
Рано утром с небольшой корзинкой она вышла из дома и направилась к роще. Там ее уже ожидал Николай.
— Ну, ты совсем?
— Совсем, Коля!
— Не жалко?
— Нет! — и она, обернувшись, посмотрела в сторону оставленного дома. — Теперь уже не жалко!
— Ну так значит теперь жить и работать по-новому. Не так ли, детка?
И он, подхвативши, легко подбросил ее в воздух, поймал сильными руками и поставил на землю.
— Конечно так!
Днем Укрчека арестовала обоих Агорских, при которых нашли много ценных сведений и бумаг. Домик заперли и запечатали.
Опасная игра изменников на этот раз сорвалась.
Начальника курсов расстреляли сами курсанты. Его обрюзгшее генеральское лицо не выражало ни особенного страха, ни растерянности, когда повели его за корпус к роще. Он усиленно сосал всю дорогу свою дорогую пенковую трубку и поминутно сплевывал на сухую, желтую траву. И только когда его поставили возле толстой каменной стены у рощи, он как будто с изумлением посмотрел на стоящий перед ним ряд, на окружающих курсантов, и окинул всех полным сознания своего собственного превосходства взглядом. И в загрохотавшем залпе потерялось последнее, презрительно брошенное им слово:
— …Сволочи!
Через два дня Петлюра внезапным ударом продвинулся за Фастов и очутился чуть ли не под самым Киевом. Это было для всех неожиданностью, так как предполагали, что красные части продержатся значительно дольше.
— Слушайте! Слушайте!
— Тише!
— Это ветер!
— Нет, это не ветер.
— Это орудия.
— Так тихо?
— Тихо, потому что далеко.
— Да… Это орудия.
Курсанты высыпали на широкий плац, на крыльцо и даже на крышу корпуса и внимательно вслушивались в чуть слышные порывы воздуха.
Ежедневные сводки доносили о непрерывном продвижении противника. Уже потерян был Курск, отошли: Полтава, Житомир, Жмеринка. Уже подходил враг с тылу к Чернигову и только еще Киев держался в руках Советской власти.
Но вскоре очевидно суждено было пасть и ему, так как все уже и уже сжималось вокруг белое кольцо, и все наглее и смелее бороздили бесчисленные банды его окрестности.
Провода перерывались, маршрутные поезда летели под откос или останавливались перед разобранными путями.
Шла спешная эвакуация, хотя отправлять что-либо ценное поездами не представлялось возможности из-за бандитизма. Даже баржи приходили к Гомелю с продырявленными пулями бортами. Со всех сторон теперь, после жестоких боев, сюда подходили командные курсы Украины: Харьковские, Полтавские, Сумские, Екатеринославские, Черкасские и другие — всех родов оружия — для того, чтобы впоследствии сорганизоваться в железную «бригаду курсантов», которой и пришлось вскоре принять на свои плечи всю тяжесть двухстороннего Петлюро-Деникинского удара. Часто теперь по синему небу скользили куда-то улетающие и откуда-то прилетающие аэропланы. А по земле — тяжело пыхтящие бронепоезда, с погнутым осколками снарядов железом, срывались со станций и уносились на подкрепление частей фронта.
Уже пятый день, как отбивается бригада курсантов, — отбивается и тает. Уже сменили с боем четыре позиции и только отошли на пятую.
— Последняя, товарищи!
— Последняя! Дальше некуда!
Жгло августовское солнце, когда измученные и обливающиеся потом курсанты вливались в старые, поросшие травой, изгибающиеся окопы, вырытые почти что под самым Киевом еще во времена германской оккупации.
— Вода есть? — еле ворочая пересохшим языком, спросил, подходя к Владимиру, покачивающийся от усталости Николай.
— На, бери!
Прильнув истрескавшимися губами к горлышку алюминиевой фляги, долго, с жадностью тянул тепловатую водицу.
Взвизгнув, шлепнулась почти рядом о сухую глину шальная пуля и умчалась рикошетом в сторону, оставивши облачко красноватой пыли.
— Осторожней! Стань за бруствер.
И опять напряженная тишина.
— Говорят, справа пластунов поставили.
— Много ли толку в пластунах. Два батальона.
Помолчали. Где-то далеко влево загудел броневик, и эхо разнеслось по притихшим полям. — У-ууу!.
— Гудит!
Шевельнул потихоньку головками отцветающего клевера ветер и снова спрятался.
— Сережа! Пить хочешь?
— Дай!
Выпил все той же тепловато-пресной воды. Отер рукавом со лба капли крупного пота. Долго смотрел задумчиво в убегающую даль пожелтевших полей и вздохнул тяжело.
— Стасин убит?
— Убит!
— А Кравченко?
— Кравченко, тоже!
— Жалко Стасина!
— Всех жалко! Им-то еще ничего, а вот которые ранеными поостались! Плохо!
— Федорчук застрелился сам.
— Кто видел?
— Видели! Пуля ему попала в ногу. Приподнялся, махнул рукой товарищам и выстрелил себе в голову.
Жужжал по земле над поблекшей травою мохнатый шмель спокойно.
Жужжал в глубине ослепительно-яркого неба аэроплан однотонно.
— Жжз-жжж!
И смерть чувствовалась так близко, близко. Не тогда, когда шум, грохот, а вот сейчас, когда все так безмолвно и тихо… Жжз-жжж!.
— Тах-та-бах!..
— Вот она!
— Тах-та-бабах.
— Вот!.. Вот она!
И дальше в грохоте смешались и мысли, и взрывы, и время. Прямо перед глазами, — цепь… другая. Быстрый и судорожный огонь.
— Ага, редеют!
Батарея…
— Наша! Отвечает!
Еще и еще цепи, еще и еще огонь. Окопы громятся чугуном и сталью, и нет уже ни правильного управления, ни порядка. И бой идет в открытую, по полям.
Трудно… тяжело!.
— Врете, чертовы дети. Не подойдете!
Кричит оставшийся с несколькими нумерами пулеметчик:
— Врете, собачьи души!
И садит ленту за лентой в наступающих.
— Бросай винтовки!.. О-го-го, бросай!
— Получай! Первую!.. вторую!..
И с треском рвутся брошенные гранаты перед