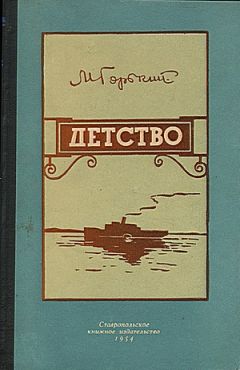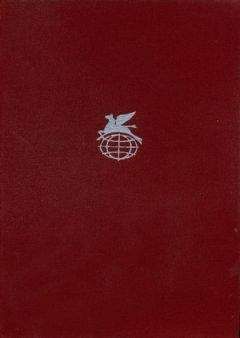голову старую, рыжую шапку, заводил нараспев дрожащим тонким голосом:
— А и в некоторыем царствии, вот и в некоторыем государствии уродился фармазон-еретик от неведомых родителей, за грехи сыном наказанных богом господом всевидящим…
Длинная седая борода дедушки Еремея вздрагивала и тряслась, когда он открывал свой чёрный, беззубый рот, тряслась и голова, а по морщинам щёк одна за другой всё катились слёзы.
Ребятишки слушали тонкий голос старика и молча смотрели в его лицо.
Всех внимательнее слушал русый Яшка, сын буфетчика Петрухи, тощий, остроносый, с большой головой на тонкой шее. Когда он бежал, его голова так болталась от плеча к плечу, точно готова была оторваться. Глаза у него тоже большие и беспокойные. Они всегда пугливо скользили по всем предметам, точно боясь остановиться на чём-либо, а остановившись — странно выкатывались, придавая лицу мальчика овечье выражение. Он выделялся из кучи ребят тонким бескровным лицом и чистой крепкой одеждой. Илья сразу подружился с ним; в первый же день знакомства Яков таинственно спросил нового товарища:
— У вас в деревне колдунов много?
— Есть, — ответил Илья. — У нас шабёр [5] колдун был.
— Рыжий? — шёпотом осведомился Яков.
— Седой… они все седые…
— Седые — ничего. Седые — добрые… А вот которые рыжие — ух, ты! Те кровь пьют…
Они сидели в лучшем, самом уютном углу двора, за кучей мусора под бузиной, тут же росла большая, старая липа. Сюда можно было попасть через узкую щель между сараем и домом; здесь было тихо и, кроме неба над головой да стены дома с тремя окнами, из которых два были заколочены, из этого уголка не видно ничего. На ветках липы чирикали воробьи, на земле, у корней её, сидели мальчики и тихо беседовали обо всём, что занимало их.
Целые дни перед глазами Ильи вертелось с криком и шумом что-то большущее, пёстрое и ослепляло, оглушало его. Сначала он растерялся и как-то поглупел в кипучей сутолоке этой жизни. Стоя в трактире около стола, на котором дядя Терентий, потный и мокрый, мыл посуду, Илья смотрел, как люди приходят, пьют, едят, кричат, целуются, дерутся, поют песни. Тучи табачного дыма плавают вокруг них, и в этом дыму они возятся, как полоумные…
— Эй-эй! — говорил ему дядя, потряхивая горбом и неустанно звеня стаканами. — Ты чего тут? Иди-ка на двор! А то хозяин увидит — заругает!..
«Вот так — а-яй!» — мысленно произносил Илья своё любимое восклицание и, ошеломлённый шумом трактирной жизни, уходил на двор. А на дворе Савёл стучал молотом и ругался с подмастерьем, из подвала на волю рвалась весёлая песня сапожника Перфишки, сверху сыпалась ругань и крики баб. Пашка, Савёлов сын, скакал верхом на палке и кричал сердитым голосом:
— Тпру, дьявол!
Его круглая, задорная рожица вся испачкана грязью и сажей; на лбу у него шишка; рубаха рваная, и сквозь её бесчисленные дыры просвечивает крепкое тело. Это первый озорник и драчун на дворе; он уже успел дважды очень больно поколотить неловкого Илью, а когда Илья, заплакав, пожаловался дяде, тот только руками развёл, говоря:
— Ну что сделаешь? Потерпи!..
— Я вот пойду да так его вздую! — сквозь слёзы пообещал Илья.
— Не моги! — строго молвил дядя. — Никак этого нельзя!..
— А он что?
— То — он!.. Он тутошний… свой… А ты — чужой…
Илья продолжал угрожать Пашке, но дядя рассердился и закричал на него, что с ним бывало редко. Тогда Илья смутно почувствовал, что ему нельзя равняться с «тутошними» ребятишками, и, затаив неприязнь к Пашке, ещё больше сдружился с Яковом.
Яков вёл себя степенно: он никогда ни с кем не дрался, даже кричал редко. Он почти не играл, но любил говорить о том, в какие игры играют дети во дворах у богатых людей и в городском саду. Из всех детей на дворе, кроме Ильи, Яков дружился только с семилетней Машкой, дочерью сапожника Перфишки, чумазой, тоненькой девчоночкой, — её маленькая головка, осыпанная тёмными кудрями, с утра до вечера торчала на дворе. Её мать тоже всегда сидела у двери в подвал. Высокая, с большой косой на спине, она постоянно шила, низко согнувшись над работой, а когда поднимала голову, чтобы посмотреть на дочь, Илья видел её лицо. Оно было толстое, синее, неподвижное, как у покойника, чёрные добрые глаза на этом неприятном лице тоже неподвижны. Она никогда ни с кем не разговаривала и даже дочь свою подзывала к себе знаками, лишь иногда — очень редко — вскрикивая хриплым, задушенным голосом:
— Маша!
Сначала Илье что-то нравилось в этой женщине, но, когда он узнал, что она уже третий год не владеет ногами и скоро помрёт, он стал бояться её.
Однажды, когда Илья проходил вблизи неё, она протянула руку, схватила его за рубаху и привлекла испуганного мальчика к себе.
— Попрошу я тебя, — сказала она, — не обижай Машу!..
Ей трудно было говорить: она задыхалась отчего-то.
— Не обижай, милый!..
И, жалобно взглянув в лицо Ильи, отпустила его. С этого дня Илья вместе с Яковом стал внимательно ухаживать за дочерью сапожника, стараясь оберечь её от разных неприятностей жизни. Он не мог не оценить просьбы со стороны взрослого человека, потому что все другие большие люди только приказывали и всегда били маленьких. Извозчик Макар лягался ногами и шлёпал ребятишек по лицу мокрой тряпкой, если они подходили близко к нему, когда он мыл пролётку. Савёл сердился на всех, кто заглядывал в его кузницу не по делу, и бросал в детей угольными мешками. Перфишка швырял чем попало во всякого, кто, останавливаясь пред его окном, закрывал ему свет… Иногда били и просто так, от скуки, из желания пошутить с детьми. Только дедушка Еремей не дрался.
Вскоре Илье стало казаться, что в деревне лучше жить, чем в городе. В деревне можно гулять, где хочешь, а здесь дядя запретил уходить со двора. Там просторнее, тише, там все люди делают одно и то же всем понятное дело, — здесь каждый делает, что хочет, и все — бедные, все живут чужим хлебом, впроголодь.
Однажды за обедом дядя Терентий сказал племяннику, тяжело вздыхая!
— Осень идёт, Илюха… Подвернёт она нам с тобой гайки-то!.. О господи!..
Он задумался, уныло глядя в чашку со щами. Задумался и мальчик. Обедали они на том же столе, на котором горбун мыл посуду.
— Петруха говорит, чтобы тебя с Яшуткой в училище отдать… Надо, я понимаю… Без грамоты здесь, как без глаз!.. Да ведь одеть, обуть надо тебя для училища!.. О господи! На тебя надежда!
От вздохов