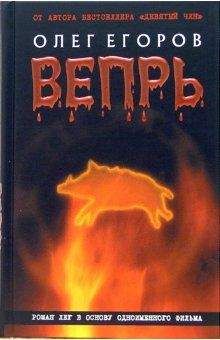Они шли из школы, со второй смены. Если бы не Сашка, Данилка и не обратил бы внимания на лимонный закат и на черные трубы мартеновского цеха, графически четко выделяющиеся на фоне закатного неба. Из труб шел кирпичного цвета дым, а рядом белым облаком окутывалась темная громада домны, стреляли кудрявыми дымками маневровые паровозы.
- Вот бы цвет поймать, - тихо сказал Сашка, внимательно ощупывая взглядом местность.
На другой день Данилка увидел все это на бумаге: и лимонное небо, и черные трубы, и кудрявые шарики паровозных дымков, и домну - толстую, неуклюжую и какую-то добрую, как Сашкина бабка, которую тоже звали Домной. И только после того, как увидел он вчерашнюю картину на бумаге у Сашки, у Данилки как бы раскрылись глаза на обыденную красоту окружающего мира, на простые вещи, которые вдруг повернулись к нему другой стороной, и он почувствовал их необычность и значение.
Первое волнение, первое по-настоящему творческое горение он испытал, когда осенним пасмурным днем стоял у ларька в очереди за ранетками маленькими кисловато-сладкими яблочками.
Низко пластались над землей серые рваные облака, ветер гнал по улице пыль и опавшие тополиные листья. Надвигался дождь. И Данилку вдруг охватила какая-то счастливая тревога, и он ясно ощутил, почувствовал всем своим существом красоту окружающего мира, и сердце его заколотилось от восторга и изумления. Он вдруг обнял сердцем и этот тревожный дымный цвет стремительно несущихся облаков, и опустившийся на улицу предненастный сумрак, и седую стену дождя вдали, и заглохшие краски дня.
Данилка прибежал домой и быстро-быстро, боясь расплескать что-то драгоценное, зыбкое, еле уловимое, набросал акварелью улицу, ларек, очередь за ранетками, рваные седые облака и нещадно загнутый порывом ветра молодой тополек. И пока рисовал, его не покидало чувство счастливой легкости и свободы, ощущение того, что он все может, все ему подвластно. Закончив работу, он долго смотрел на акварельный рисунок, понимая, что ему удалось схватить и цвет, и настроение и передать все это в красках. И от этого подкатил к горлу комок. Данилка глотал его и не мог проглотить и устало и счастливо улыбался.
Когда Данилка показал акварель другу, Сашка пришел в восторг. Он хлопал Данилку по плечу и орал:
- Вот видишь, видишь! А то какие-то лебеди ему нравятся!
Данилка был очень польщен похвалой, уши его пылали.
Сашка многому научил Данилку, на многое открыл глаза. От него Данилка, к великому своему удивлению, узнал, что снег, оказывается, никогда не бывает белым. По утрам он - голубой, в обед - розовый, в сумерки - синий, а когда свечереет - то черный. Это было открытием. Данилка поначалу не поверил. Тогда Сашка потащил его на улицу в ослепительное сверкание снега.
- Видишь, видишь, снег - розовый. А тени вон голубые! - восхищенно говорил Сашка, будто все это создал он сам. - Видишь? А вечером тени станут синими, потом черными, и снег тоже другого цвета.
Снег действительно был розовым от солнца, а от домов падали голубые тени. Иней на проводах тоже сверкал розовым отблеском. Данилка поразился. А Сашка все таскал его по морозу и показывал.
- Видишь, солнце почти белое, только чуть-чуть краплаку добавлено, а трубы сиреневые. Слепой ты, что ли?
Данилка смотрел и видел, что все было так, как говорил Сашка.
- А на провесне он глухим станет, снег.
Данилка не понял, почему снег станет глухим.
Сашка объяснил, что на провесне (это в феврале, в предвесенние дни) снег становится "глухим", потому что теряет блеск от влаги, сыреет, тяжелеет.
- Неужели не видел? - удивлялся Сашка. - Свету больше в воздухе становится, а снег, наоборот, глохнет, не блестит, как сейчас.
Сашка досадовал и недоумевал, что Данилка не знает таких простых вещей. Но постепенно Данилка тоже стал кое-что понимать и в цвете, и в светотенях, и в полутонах, и в композиции рисунка. Сашка хвалил и радовался.
Сашка и Данилка регулярно посещали кружок ИЗО, которым руководил физрук Ефим Иванович. Высокий, рыжий, с выпирающими скулами и мощным борцовским затылком, подстриженный по моде "под бокс", этот человек наставлял своих учеников, как ходить на лыжах, крутить "солнце" на турнике, а вечерами учил рисовать. В изокружке было несколько человек, и рисовали они масляными красками. К удивлению Данилки, здесь говорили не "рисовать", а "писать". Кто что хотел, тот то и писал.
Данилка выбрал себе "Всадника" художника Орловского. На открытке был изображен поднявшийся на дыбы конь, а на нем всадник в шляпе с пером. Сашка писал "Красный виноградник" какого-то Ван-Гога. Данилке картина не нравилась, он не понимал, почему Сашка выбрал именно эту невзрачную картину, но, к его удивлению, Ефим Иванович больше всего уделял внимания именно этой картине, и они с Сашкой подолгу о чем-то говорили вполголоса.
Ребята засиживались в кружке допоздна, пока уборщица не выгоняла их. Сашка всегда удивлялся, что время уже позднее. Однажды он так засиделся перед своей картиной, что не сразу откликнулся на зов Данилки. Глаза его были отрешены и задумчивы. Данилка спросил, чем уж так эта картина ему нравится.
- Трагическая, - ответил Сашка. - Видишь, красный цвет - нервный цвет, отблески на мокром. Деревья как косое пламя на ветру. Видишь, какой мазок - длинный, неровный. Все здесь нервно, тревожно. Не чувствуешь?
Данилка сказал, что чувствует, хотя ничего не чувствовал.
Дома Сашка показал Данилке несколько открыток. На одной из них было изображено спелое поле ржи, поваленное порывом ветра, и стая косо летящих воронов. Опускалось в закат дымное кровавое солнце, зловещее, как чей-то жестокий, неумолимый, смотрящий с неба глаз.
- Что чувствуешь? - тихо спросил Сашка.
Данилка молчал. Чем больше смотрел на картину он, тем больше его охватывала какая-то непонятная тревога, боязнь чего-то, смутный страх. Особенно тревожили эти вороны, их косой изломанный полет. Нет, даже не вороны, а неспокойно завихренные мазки - нервные, полные напряжения и взрывчатой силы мазки по всей картине. И небо, и солнце, и желтая рожь, и птицы - все было исполнено этими мазками.
Данилка взглянул на Сашку и поразился: Сашка был бледен, зрачки расширены.
- Ты чего? - испугался Данилка.
- Это же Ван-Гог, - тихо отозвался Сашка. - Это его последняя картина. Он написал ее и застрелился.
- Зачем? - почему-то шепотом спросил Данилка.
- Ефим Иванович говорит, что душа не выдержала. У каждого гения в груди напряжение создается, сила внутренняя такая.
Сашка задумчиво смотрел на открытки Ван-Гога.
- Научиться бы так писать! - тихо сказал он. - Знаешь, у меня все время на душе свербит - хочется так написать картину, чтобы все ахнули. Ну, не ахнули, а как бы это сказать, - он взглянул на Данилку серьезно, по-взрослому, - чтобы она была написана, как у Ван-Гога. Мне все время кажется, что я чего-то недоделал. Пишу, а сам думаю - плохо. Даже не так. Когда пишу, то нравится, а когда напишу - смотреть не могу.
Горел в груди Сашки тот огонь таланта, который не дает художнику успокоения, заставляет его переделывать картины бессчетный раз, быть вечно недовольным своими произведениями; тот огонь, который заставлял больных и голодных, гонимых и преследуемых непризнанных творцов идти своей дорогой, тяжкой и светлой. Был этот огонь в груди Сашки. Он заставлял его помногу раз переделывать свои рисунки. Однажды Данилка спросил, зачем столько раз перерисовывать уже нарисованное, когда и так все хорошо. Сашка ответил:
- Надо, чтобы еще лучше было. Чтобы рисунок был прост и ясен.
- И так уже все просто и ясно.
На это Сашка сказал:
- Федотов, который "Сватовство майора" написал, говорил: "Переделаешь раз со сто - будет просто". Понял?
Своими рассуждениями о живописи Сашка поражал Данилку. В остальном он был мальчишка, как и все другие. Любил кататься на лыжах, ходить в кино, удирать с уроков, вздыхал по Аньке Скоробогатовой - вертлявой белокурой сокласснице. Писал ей записки, тайком клал их в карман ее пальто в раздевалке. Любил петь под гитару песенку: "И понравился ей укротитель зверей, чернобровый красавец Андрюшка..." Младший брат его, пятиклассник, всегда при этом расплывался в улыбке. Его звали Андреем.
- Ты знаешь, - сказал однажды Сашка, широко и удивленно раскрыв глаза. - Я все время удивляюсь: как это так! Берешь краски, выдавливаешь, делаешь мазок - раз-раз! - и получается картина. Это ж - чудо! А? Вот дерево, я на него смотрю, а потом - раз! - и на холст или бумагу. И делаю его таким, каким вижу. А другой видит его по-другому. А если бы все одинаково видели - скучно было бы. Я вот рисую, а у меня сердце замирает. Даже страшно становится, что я могу кистью сделать.
Однажды Сашка принес на урок рисования - а рисование в классе вел все тот же Ефим Иванович - портрет своего пятилетнего племянника. Выполнен рисунок был акварелью в розовых тонах. Лицо карапуза будто бы выплывало из акварельного тумана. Но самым поразительным на портрете были глаза. Они были устремлены и вовне, и в то же время внутрь, в себя, будто бы этот пухлогубый мальчишка размышлял, напряженно думал о чем-то, смотрел на мир не только с детским любопытством, а хотел понять и осмыслить этот окружающий его мир.