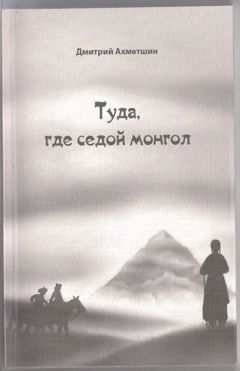Узнялис поднес к губам ноющую руку, провел по суставам пальцев языком, потом присел на корточки и стал на ощупь собирать на глиняном полу все, что вывалилось у него из рук. А Казюня не только не остыла, не пожалела о том, что слишком погорячилась, но и, наоборот, продолжала изливать свою ярость, бросая в лицо Казимерелису все новые обвинения. И характер-де у него хуже некуда, и привычки поганые, а уж о звуках и запахах, что он издает, и говорить не приходится...
Обвиняемый же сгребал с полу крошки табака и, шмыгая носом, все повторял:
- Ну, будет, Казюнеля, будет... Можешь поставить на мне крест. Теперь уж, Казюня, аминь...
Избенка Узнене состояла всего-навсего из трех комнатушек да сеней. В одной комнате с печкой сидели сейчас они, затем была еще горница, где спала Казюня, а сразу за сенями - боковушка, в которой поселился Казимерелис. Там он поставил себе железную печурку, но топил ее, лишь когда принимался мастерить что-нибудь. А спать ночью под периной он привык и в нетопленной комнате.
Казимерелис зажег лучину и пошел к себе. Засветив лампу с разбитым стеклом (за которое ему, кстати, тоже досталось в этот вечер), Узнялис пожаловался вслух:
- Боже мой, боже милостивый!.. За что ты со мной так, за что?!.
От этих горьких слов он еще больше расчувствовался, тело его сотрясали рыдания, но Казимерелис и теперь не спеша разделся, по привычке аккуратно повесил на деревянный гвоздь заскорузлый кожушок, брюки с бахромой, шарф, которым любил укутывать шею... И вдруг он почувствовал кисловатый запах хлеба, забивавший тяжелый табачный дух, - это Казюня имела обыкновение держать только что испеченный хлеб здесь, на холоде, где он не так черствел. Казимерелис отломил кусочек горбушки и забрался в ледяную постель. Накрылся с головой, съежился в комочек, насколько позволяли его негнущиеся суставы, и стал согревать себя собственным дыханием.
Болела голова, в ушах звенело, ныли перебитые пальцы, но Казимерелис утешал себя тем, что он, кажется, ничего плохого не сделал Казюне, даже слова грубого ей не сказал. А ведь при желании мог бы и он не остаться в долгу...
Все это, пожалуй, Казимерас припомнит, когда Казюня раскается и придет к нему просить прощения. "Не из-за меня, из-за себя, детка, убивайся, слезы лей, - примирительно скажет ей Узнялис. - В костеле небось богу объятия раскрываешь, а дома... Сама подумай, родная, сколько нам с тобой осталось... Чтобы не пришлось потом казнить себя судом своей совести, перед богом, перед людьми ответ держать... Ах, Казюня, Казюнеля, не таю я против тебя злобы, а одно лишь сказать хочу: в ножки тебе больше кланяться не намерен... Но если ты меня разобидишь и прощенья не попросишь, говорить нам больше будет не о чем..."
Казимерелис даже взмок под своими перинами, и в то же время его сильно знобило, а голову, казалось, кто-то время от времени прокалывал шилом - словно башмачник-невидимка без толку тыкал в нее толстенной иглой...
"Похоже, завтра мне не встать, - подумал он равнодушно. - Сможешь тогда порадоваться - вон я как огнем горю... Чего доброго, натерпишься страху, когда я велю за настоятелем послать... Раудис спросит: "Да что это с вами? Ведь вчерашний день здоровехонек был, ни о чем таком и не думал!.." Ох, Казюня, Казюня... Не навлеки на себя гнев божий!.."
Однако за ночь Казюня, видно, совсем осатанела, потому что, ворвавшись наутро в боковушку, на Казимераса она и не глянула, схватила с полки две буханки, одну оставила больному и грубо бросила:
- Козу покормила, напоила, а свою овцу сам как-нибудь встанешь да покормишь, чтоб не блеяла.
Боровка-то они уже давно закололи и мясо его не заметили, как умяли. Ждали теперь, когда козлята подрастут. Овца тоже принесла парочку ягнят. И их собирались подержать до осени.
- Так и запомни, - произнесла свой приговор Казюня, - будешь теперь сам себе готовить, когда проголодаешься, сам прибираться в общем, будешь сам себе голова...
А он-то, заслышав шаги, решил, что вот-вот наступит час расплаты. Сердце зайчонком встрепенулось от дремы, подпрыгнуло, трепыхнулось отчаянно, и каждый его стук болью отозвался в голове Казимерелиса. Но едва ли не с радостью ждал, что сейчас вот Казюня подойдет поближе и увидит его пылающее лицо; больной даже пошевелил запекшимися губами, подбирая слова: хотел сказать ей, что пальцы его левой руки и ноги почему-то онемели. "Полюбуйся на свою работу... Может, хоть теперь твое сердце смягчится, может, сейчас выжмешь ты слезу..."
Случись все так, и Казимерелис тут же простил бы ее и с радостью отдал себя в руки раскаявшейся. И тогда, как ему казалось, непременно свершилось бы чудо: на сердце Казимерелиса снизошла бы светлая благодать, которая унесла бы прочь все недомогания. И зажили бы они по-новому...
Однако Казюня, судя по всему, решила, что ее лежебока просто так валяется в постели. Окна изморозью подернуты, вот и не видит, что дело к полудню, а может, назло ей выжидает, что она не выдержит и придет растопить печурку, от которой одна копоть. Дудки, уж Казюня-то знает, как тебя проучить...
Поднявшись спозаранку, она отправилась к своему родственнику Будрикису и пожаловалась, что печурка у нее от сырых дров, видно, совсем пришла в негодность, дыму полная изба, а тепла нет, пальцы стынут, вот и хочет она прясть Будрикисову пряжу у него дома. Правда, ненадолго сбегает домой - по хозяйству управиться, козу подоить и назад... А тот лодырь пусть-ка померзнет, пусть повозится с этой проклятой печкой... Может, холод и голод одолеют наконец эту его лень. Покуда она тут трудится, глядишь, Казимерелис все же раскачается расковыряет промерзшую землю, наскребет немного глины да наведет в доме хоть какой-то порядок.
Будрикене эта затея понравилась. Она только посоветовала Казюне держать язык за зубами, никому не говорить, что сидит здесь в тепле, и привести козу, чтобы не нужно было мотаться по нескольку раз в день домой.
Казимера так и сделала. Подоив в тот день козу, она оставила молоко на печке; может кот хлебать или муженек пить - и погнала козу с козлятами по заснеженному полю к хлеву Будрикисов.
Заслышав снова шаги, Казимерелис громко застонал и позвал жену по имени, потому что руку и ногу его так и не отпустило до вечера. Почувствовав жажду, он с огромным трудом дотянулся правой рукой до заиндевевшего окошка и наскреб ногтями немного снега. Казюня не услышала его слабого голоса и даже мельком не заглянула в боковушку. Подумала, верно, что Казимерас лежит, как колода, от нечего делать. Небось облапил буханку, уминает ее и назло не встает.
"Ну-ну, - злорадно подумал больной, - а что ты запоешь, когда увидишь свой хлеб нетронутым, как я тут с голоду подыхаю. Свернулся вот клубком, словно пес, и жду не дождусь, когда ты опамятуешься да принесешь мне чего-нибудь горяченького..."
Растравив себе еще раз душу, Казимерас всхлипнул и даже всплакнул потихоньку, а затем вновь погрузился в сладкие грезы о том, как простит этой бессердечной упрямице все свои мучения - ведь не ведает она, что творит... Он ошарашит ее своей добротой, озарит ее блуждающую в потемках душу, а ему уж, видно, воздается за это сторицей там. Поди знай, вдруг Казимерелису уготован усыпанный жемчугами венец великомученика?
Так и не дозвался Узнялис жену ни поздно вечером, ни, наутро... Да он и сам уже не знал, сколько времени прошло, только теперь, приходя в себя, думал лишь о том, чтобы скорее пришла к нему смерть, а не жена Казюня. А когда до него доносился неясный шорох или потрескивали от мороза стены, Казимерелис испуганно вздрагивал - он хотел умереть раньше, чем сюда заявится его мучительница. Пусть лучше она увидит своего отвергнутого растяпу мертвым, пусть ее замучает совесть, потому что, видно, господь бог хочет преподнести урок не только ей, но и всем, кто знал Казимераса Узниса.
"Люди, люди! - казалось, слышал Узнялис голос всевышнего. - Сердца ваши шерстью обросли! Глаза пеленой застило!.. Оглянитесь вокруг! Опомнитесь! Много ли значат ваши молитвы, если не подкреплены они добрыми поступками, любовью к ближнему? Что вы наделали, что натворили?.."
И на перекошенном параличом лице Казимерелиса мелькнула слабая улыбка. Скорей бы уж пробил его час...
Только бы Узнене не успела слетать за доктором, переодеть его в сухое и подстелить другую простыню - только бы не удалось ей скрыть от людей свое страшное злодеяние!!
А Казюня все тревожнее поглядывала на трубу своей избы, откуда не клубился дымок. Охваченная недобрыми предчувствиями, прибежала она домой и первым долгом заглянула в хлев. Мужнина овца, его единственное приданое, лежала без движения, а рядом, с писком отталкивая друг друга, тыкались носами в ее холодный живот двое белых ягнят. Узнене испуганно кинулась в избу и увидела лежащего на полу под стеной Казимерелиса. Он уже давно остыл и, совсем как в той сказке, глядел из-под полуопущенных ресниц: что-то теперь будет делать его жена? Рядом валялась изгрызенная мышами, обледенелая буханка...