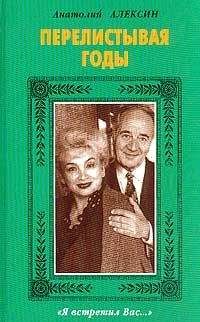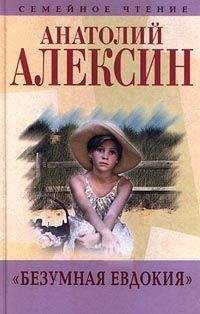что могла доверить себе одной. И еще мне… незадолго до того страшного дня, когда навечно покинула наш дом, нашу квартиру, в которую заглянул будущий фильм. Но для меня бабуля в квартире жить продолжала. Я и по этой причине не хотела переселяться ни в коттедж, ни на виллу.
Помню, бабуля сказала: «Не боюсь смерти — боюсь расстаться с тобой… И со всей нашей семьей, конечно. — Это она как бы договорила. — Прочти мой дневник. В нем не так уж много страниц: он уместился в одной — правда, не тонкой! — тетради. Мы с тобой и в этом похожи: ты ведь тоже с самой юной поры записываешь, записываешь… Старательней и чаще, чем это делала я. Если пожелаешь, дай прочитать мои записи маме и папе. И еще кому сочтешь нужным. На твое усмотрение. На твой суд!»
«Судить» бабулин дневник я не взялась. К тому же там была фраза, из-за которой показывать его маме я пока не посмела. Всего одна фраза: «Самый близкий и дорогой для меня человек на свете — это моя внучка».
А режиссеру я бабулин дневник показала. Как выяснилось, он всю ночь не спал: не мог оторваться от заветной тетради. Перелистывал, перечитывал, обдумывал…
— Будь это дневник моей бабушки, я бы его опубликовал. Люди должны познакомиться с таким человеком, как твоя бабуля. Чтобы стать лучше. Это требуется многим. А то и почти всем…
Он отобрал те абзацы, с которыми захотел ознакомить маму. «Во имя фильма!» — заявил он. И я запретить не посмела. Начал он ознакомлять маму именно с той фразы, которой я опасалась: «Самый близкий и дорогой для меня человек на свете — это моя внучка. Ее талант служит добру. Она скромна, но цену себе знает (не в материальном смысле, а опираясь на свои совершенно индивидуальные способности). Одаренная личность и должна знать себе цену!»
Я, повышенно скромная, как полагала бабуля, процитировать это в какой-нибудь из своих тетрадок сперва не решалась. А сейчас вот…
«Даже всеми признанный русский гений, не нуждавшийся в самооценках, однажды воскликнул: „Ай да Пушкин!“ А обращаясь к художнику, в какой бы сфере искусства он ни творил, гений дал ему высокое право:
Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?»
Бабуля продолжала в своем дневнике ссылаться на Пушкина. И дальше писала: «Боюсь не дождаться, когда моя взыскательная внучка предстанет перед „своим“ судом. Она будет долго раздумывать: довольна ли своим „трудом“. И потому позволю себе сказать, что очень довольна ею и ее трудом во имя людей. Пусть это и звучит высокопарно».
Услышав на кухне от режиссера бабулины оценки дочери, мама отбросила в сторону свою воспитательную миссию:
— Вы разрешите заново выразить мое отношение к дочке? Всего в одной фразе. Или в двух.
— Жду с нетерпением! — обрадовался режиссер.
— Я горжусь Смешилкой. И тоже люблю ее больше всех на земле! — Мама не обиделась… Чего ж я страшилась? Наоборот, она восторжествовала.
— А я на каком месте? — поинтересовался папа.
— На третьем, — не задумываясь, определила мама.
— А кто на втором?
— Навсегда останется моя мама. Нет… пожалуй, она вместе с дочкой — на первом!
Папа, таким образом, передвинулся на освободившееся второе место. Похоже, это его устроило.
Не в избытке ли у меня все эти «похоже», «вроде», «будто» и «словно»? Они вроде (опять «вроде»!) таят в себе раздумчивые сомнения, застенчивую неуверенность. Уберегают от чрезмерной самоуверенности тона… Но не злоупотребляю ли я этими свидетельствами своей скромности?
— А мое прежнее высказывание о дочери уничтожьте. Ладно? — попросила мама.
Режиссер промолчал. А ознакомив меня с той короткой беседой, сознался:
— Уничтожать ничего не стану. Как было, так и должно остаться! Получился весьма достоверный сюжет. А достоверность, как уже доказывал, — это душа документальной картины. Ты согласна?
— Ну а если все-таки вырезать?
— Ни в коем случае!
Я сдалась. И подумала: «Если бабулино мнение обо мне появится на телеэкранах… почему тогда ему не появиться в моей тетрадке?» И вот оно появилось.
Следующей участницей бесед за кухонным столом стала Нудилка.
Она принялась бодро и весело объяснять режиссеру, что у нее одна нога короче другой.
— Одна нога длиннее другой, — уточнила я так, как уточнял ее брат.
Не услышав меня, Нудилка с удовольствием сообщила, что из-за упомянутого дефекта она многие годы сходила с ума. С предельной веселостью оповестила о том, что даже хотела «покончить с собой».
— Ты что, совсем разучилась нудить? — разочарованно спросил режиссер.
Ему хотелось, чтобы вначале она продемонстрировала свое давнее удручающее занудство. Как горькое воспоминание… А чтобы уж после мы с ней вдвоем продемонстрировали, как я от занудства ее исцеляла.
Нудилка наконец этот сценарный план ухватила — и тягучим, умирающим голосом стала предъявлять режиссеру претензии:
— Почему вы позволяете себе прерывать мою исповедь? У вас разве тоже одна нога короче другой? И вы тоже испытали, что значит хромать по жизни? Я пришла на вашу — ненужную мне! — съемку бодрой и жизнерадостной. А вы бесцеремонно перебили меня. Прервали… Считаете, что если превратили Смешилку в звезду, то и всех вокруг осчастливили? Я снова не хочу жить…
Глядя в камеру, Нудилка пояснила:
— Так бы я вела себя прежде.
— Стоп! Достаточно… Зрители убедятся, что прозвище у твоей целительницы снайперски точное: Смешилка сумела исцелить тебя юмором. Освободить от обидчивости и занудства. Прости, что перечисляю твои, к счастью, ликвидированные недуги. Плоды лечения ты нам продемонстрировала вначале. Доказала, что даже о тяжком можно вспоминать с легкостью, без уныния. Отшвырнув ощущение безнадежности… А теперь вы обе познакомьте нас, пожалуйста, с короткими фрагментами исцелительного процесса. Если возможно…
Мы не заставили себя упрашивать.
— Когда ты припадаешь на левую ногу, это выглядит очень обаятельно. Или пикантно, как говорит твой брат. Я заметила, что мальчишкам это нравится, и они внимательно на тебя смотрят, — начала я.
— На калек всегда обращают внимание. Их унижают состраданием, — с горечью пожаловалась «вошедшая в прежний образ» Нудилка.
— Ничего подобного! Они видят в тебе не калеку, а женщину. Будущую, во всяком случае… — смягчила я свое наблюдение.
— Из всех мнений противоположного пола меня интересует только мнение моего брата.
— Семейственность какая-то! — осуждающе, но неискренно запротестовала я. Хотя в этом наши вкусы сходились.
Якобы протестуя, я стала ей показывать, как, по моим наблюдениям, не брат, а посторонние представители сильного пола взирают на тех представительниц слабого пола, которые обладают силой очарования. И, подобно художникам, непохожестью…