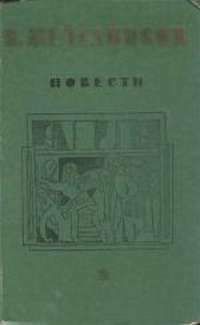Я вошел во двор и посмотрел на окна нашей квартиры. Окна как окна. Ничего на них не написано. Отец просил меня: «Береги мать». А как это делать? Неизвестно. Она и вчера, видно, из-за него поздно вернулась домой, а мне ничего не рассказала, хотя мы всегда все выкладываем друг другу. Она любила мне рассказывать и про сослуживцев, и даже про их семьи. Я никогда никого не видел из ее сослуживцев, но всех представлял. А тут она, значит, что-то скрывала от меня.
Двор мне показался коротким: не успел опомниться — и уже стоял перед нашим подъездом. Ноги мои приросли к месту. Может быть, к тому самому месту, где только что стояла мать, где три года назад последний раз прошел отец.
И вдруг я почувствовал плечо отца, меня даже качнуло от того, как он резко и неожиданно прижался ко мне плечом. А теперь его рука обняла меня. Так хорошо, когда на плече его рука!
Он часто ко мне приходит. Первое время это было всегда ночью. Встанет, бывало, в самом тесном углу моей комнаты и стоит. Ему там неудобно, потому что он большой и толстый, а он стоит. Сначала я старался от него отделаться, начинал вспоминать всякие дневные истории, или содержание каких-нибудь книг, или просто пел про себя. Но это не помогало, и тогда я стал с ним разговаривать, вот как сейчас. Одевал его в военные костюмы, нравился он мне в военном, и развешивал на его груди ордена. Он всю войну был на фронте, и у него было много орденов. Его два ордена Отечественной войны и польский «Крест храбрых» до сих пор хранятся у нас, а два ордена Боевого Красного Знамени пришлось отдать в военкомат. Такой порядок. А жалко, мне нравились эти ордена.
Он умер три года назад, и все, может быть, думали, что я его забыл, а он, наоборот, за эти три года крепко засел в моей памяти, и не проходило дня, чтобы я его не вспомнил. Вот и сейчас он шел рядом со мной, и его рука приятно грела мне плечо. Какая у него тяжелая рука — это оттого, что он вырос в семье лесорубов, а на войне был артиллеристом. На таких работах рукам некогда отдыхать.
Пойти посидеть с ним в сквере, где играют малыши. Они там здорово пищат, но мне это не мешает думать.
Мать сидела около окна и читала книгу. Можно было подумать, что она так сидела уже два часа, а можно было подумать, что она схватилась за книгу, когда услыхала, что я открываю дверь.
— Ты почему так поздно? — спросила она, а сама трогала пальцами одной руки кончики пальцев на другой. Вечно у нее болят кончики пальцев от клавиш машинки.
Я уже хотел ей ответить, что был у Кулаковых, но тут она выскочила вперед и сказала:
— Я волновалась.
Ловко придумала, сама только что пришла и обо мне-то, может быть, не помнила, а говорит: «Я волновалась». Повернулся и пошел в ванную. Что-то ведь надо было делать. Пришел в ванную и начал мыть руки, три раза намылил, все старался придумать, как же мне поступить.
Ужас до чего я нерешительный и жалостливый. Я поэтому всегда во все игры проигрываю, в шахматы, например, потому что мне жалко противника.
Я не слышал из-за шума воды, как она вошла в ванную. Она выросла передо мной неожиданно и так неожиданно заглянула мне в глаза, что поняла, о чем я думал. Вот бывает так, другой человек посмотрит тебе в глаза и все прочтет в них, и она прочитала все по моим глазам и догадалась, что я ее видел с провожатым, но сделала вид, что ничего не поняла.
— Ты голодный? — спросила она, точно это было сейчас самое главное.
— Нет, — ответил я и намылил руки в десятый раз.
Она все еще стояла за моей спиной.
— Мне повезло, получила большую работу на дом. Диссертацию одного молодого ученого. Заработаю деньги и куплю тебе новую лыжную куртку. А то скоро зима.
Видели мы этого молодого ученого. Руки у меня окоченели от воды, и я стал их вытирать. По-моему, было что-то унизительное в том, что она будет печатать его работу, а потом купит мне на эти деньги куртку.
— У меня и старая куртка не такая уж плохая, — сказал я.
Она помолчала, потом прижала кончики пальцев к вискам. Это значит, у нее заболела голова. Я увидел, как на левом виске, под ее тоненькими прозрачными пальцами нетерпеливо билась жилка. У нее даже веснушки на носу побелели.
Мы вернулись в комнату и сели по разным углам. Мы, даже когда ссоримся, все равно сидим в одной комнате. Мама мне говорила, что когда она меня обидит, то моя боль тут же передается ей.
— Гвоздик! — окликнула она меня. Она всегда придумывает мне разные имена, когда у нее хорошее настроение или когда она, наперекор всему, хочет его сделать хорошим. — Гвоздик, может быть, ты все же расскажешь мне, где ты был и почему ты не хочешь есть?
А вдруг он вправду только отдал ей перепечатать свою диссертацию?
— У Кулаковых я был. Это новенькие из нашего класса. Брат и сестра. Иван и Тошка. Они живут в Плотниковом переулке, в новом доме…
Она слушала меня и чему-то улыбалась. Не понял я, мне она улыбалась или нет.
— Мы там под руководством Ирины Тимофеевны, это их мать, жарили мясо. Здорово получилось. А отец у них летчик-испытатель, его дома не было, но фотографии я его видел. У Ивана над столом ими вся стена увешана.
Она снова чему-то улыбнулась. Мне даже захотелось оглянуться, потому что выходило, что она улыбалась кому-то, кто стоял позади меня. У меня так бывает. Например, мне иногда кажется, что я войду в свою комнату, а там сидит отец. Вот и сейчас мне захотелось оглянуться, и я бы оглянулся, но тут хлопнула входная дверь, и в комнату вошел дед.
Он пришел не один, а с шофером такси, и они втащили большой картонный ящик. Я сразу узнал, что это за ящик, но все это было настолько неожиданно, что и надеяться боялся.
Наконец шофер ушел, и дед сказал:
— А что вы на это скажете?
Я подошел, развязал веревку, приоткрыл ящик, увидел полированную стенку телевизора и сказал:
— Порядок.
— «Порядок»! — передразнил меня дед. — Какое куцее слово подыскал для выражения чувства восторга и радости.
Я промолчал, нечего было говорить, когда и так все ясно: телевизор стоит посередине комнаты и это действительно порядок. Наивысший, восхитительный, потрясающий, необыкновенный порядок!
Мама тоже подбежала к ящику, провела рукой по его гладкой, полированной поверхности и сказала:
— Такой дорогой. Спасибо, отец… Теперь мы не будем скучать вечерами. А для Юры это даже полезно: по телевизору все время идут передачи для детей. А то у Рябовых есть телевизор и у Поповых, у всех его приятелей, так он может в своем развитии отстать от них.
— Ну ладно, ладно, — сказал дед. — Где мы поставим сей предмет?
— Вон, в углу. Пока на пол, — сказала мать. — А потом купим маленький столик. — Она с беспокойством посмотрела на деда, какой-то у нее был виноватый вид. — Я получила на дом работу, перепечатаю, получу деньги, и купим столик. А ты, Юра, немного подождешь с курткой? Ладно?
— Могу подождать, — сказал я. Мне было обидно за мать, чего она так перед дедом… — А вообще-то я могу сделать столик сам, на уроке труда. У нас Роман Иванович любит, когда мы на уроке что-нибудь делаем для дома.
— Знаю я вашу работу. Один обман, — ответил дед. — На твой столик поставь эту вещь, цена которой сто девяносто рублей, а твой столик хряк… и нет телевизора.
— Мы делаем крепко, — сказал я. — Роман Иванович говорит, что у нас золотые руки.
— «Золотые руки»! Отойди, пожалуйста, от телевизора. Понял? Не ты купил, не тебе ломать.
— А я разве собираюсь ломать? — удивился я.
— Иди, иди, мы вдвоем с матерью все сделаем…
Я повернулся и отошел к окну, пока они там пыхтели около телевизора, вытаскивали его из коробки, ставили в угол и дед проверял лакировку и отделку. «Ну и пусть себе проверяет, — подумал я. — Не знает даже, что проверять». Хотелось оглянуться и посмотреть, что они там колдуют, но я взял себя в руки — не оглянулся. Стоял, смотрел в окно, а сам слушал, что они говорили.
— Что это ты вдруг расщедрился? — спросила мать.
— Кто же вас пожалеет, если не я, — сказал дед.
— Спасибо, отец, — сказала мать.
— Только ты Юрия предупреди, чтобы он не таскал к нам ребят со двора. Обязательно сломают…
— Конечно. После них разве что лишняя работа, — в тон деду поддакнула мать. — Полы все затопчут…
Мать говорила как-то неуверенно, она ведь была совсем другой, и то, что она сейчас говорила, было против ее воли. Она подлаживалась под деда, просто старалась ему угодить, и все из-за какого-то телевизора. Плевать мне тысячу раз на этот телевизор. Ни разу к нему не подойду.
Хуже всего, когда человек только для себя. Мне бы сейчас поговорить с дедом, как надо, а я молчу. Знаю, что дед жадный, несправедливый, а прощаю его и даже иногда похваливаю ребятам. Странно это… Чужих осуждаешь, а своим все прощаешь. А вот Иван Кулаков ни за что бы его не простил.
— Эй, Юрий! — крикнул дед. — Подойди, помоги.