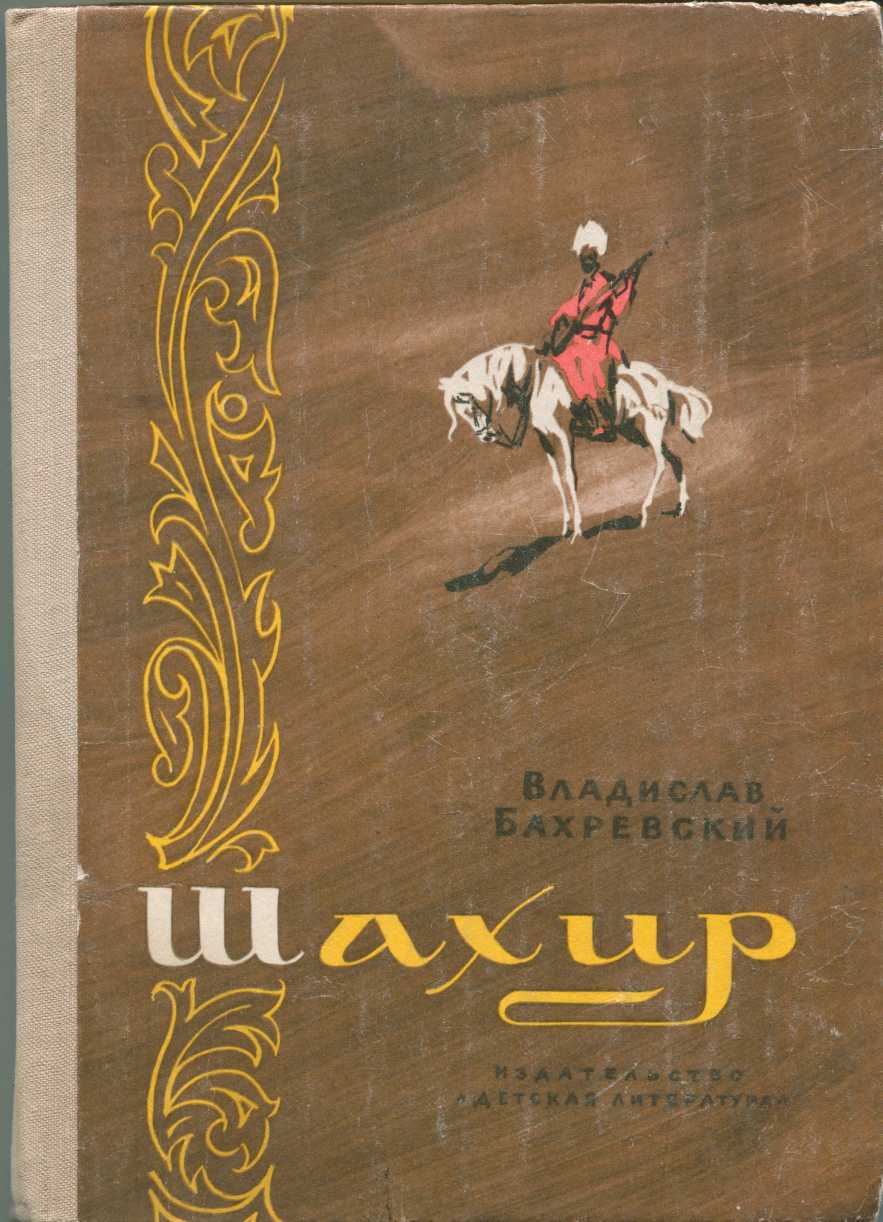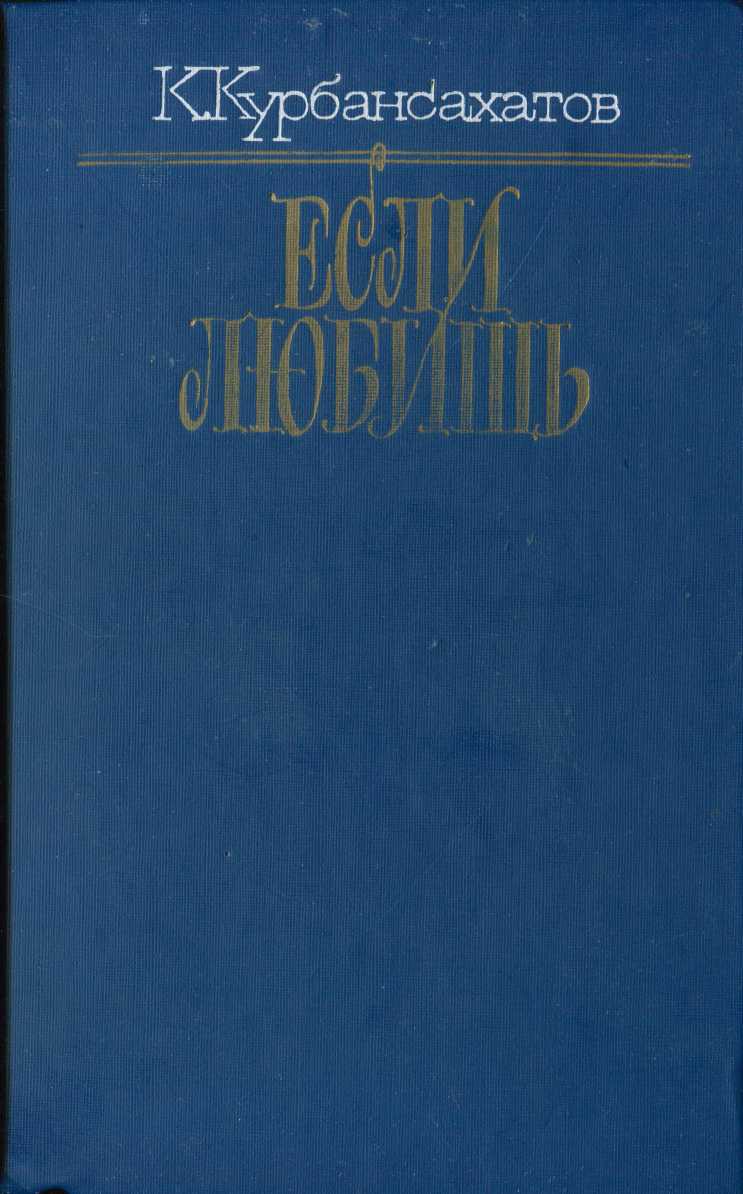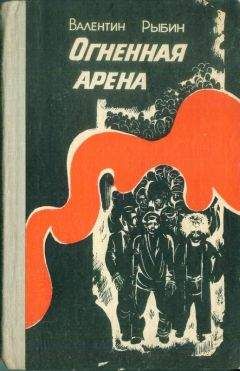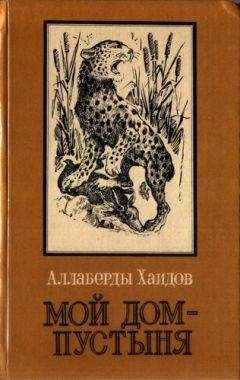посмеиваясь над собой, но внешне оставаясь серьезным, стянул сапоги, расстегнул ворот рубахи. Иван улыбнулся ему и ушел, плотно притворив дверь.
Комната была светлая, в три окна. Махтумкули осторожно тронул постель рукой. Рука погрузилась в мягкое.
"Буду спать на птичьем пуху!" — сообразил шахир, засмеялся и храбро кинулся в постель.
Он полежал с открытыми глазами, собираясь сказать себе что-то важное, но не успел, заснул. Проспал бы, наверное, до утра, если бы не колокола.
Радостный трезвон словно бы посеребрил ночь.
Лежа в своей постели-колыбели, Махтумкули думал о русских, о туркменах.
Не спалось. За окошком светало. Встал, оделся в свои туркменские одежды и осторожно вышел из дома.
Земля пахла прибитой пылью, травой, а дома пахли пирогами.
Румяная заря играла на праздничном небе. Порадовался, что слобода не в каменном кольце города — в такую рань не выпустили бы, — пошел по берегу Волги, навстречу сильной, чистой до самого дна воде. Он ушел далеко в степь, помолился на каком-то кургане, а потом запел. Он пел заунывное для русского уха, но эта бесконечная жалоба вдруг прерывалась страстными всплесками высокого голоса, словно река натыкалась с размаху на пороги и начинала прыгать между камней и через камни.
Он сел, закрыв глаза, и сам себе казался жаворонком. Вдруг воздух вздрогнул. То ударили колокола астраханских церквей, призывая прихожан на утреннюю молитву.
Когда Махтумкули вернулся в дом, все уже поднялись и были за праздничным столом, ломившимся от кушаний.
— А мы думали, сбежал! — обрадовался Семен. — Ну, Христос воскресе! Прости, если в чем провинился перед тобой.
Семен трижды поцеловался с гостем, и все, кто был за столом, подошли к нему и целовали трижды, и он тоже отвечал поцелуями, удивляясь странному обычаю русских.
— Все у тебя просят прощения! — перевел Семен. — Прощаешь, что ли?
— Да за что же прощать, если я вижу людей в первый раз?
— Нет, уж ты не запирайся! — смеялся Семен. — Таков наш закон.
— Прощаю, — сказал Махтумкули.
— Садись на лавку, у нас на полу не умеют сидеть. Ну, с богом, а то вчера на одном квасе жили.
Началось пиршество — постники разговлялись.
24
Гостем у Семена был отставной солдат, ныне состоящий при самом губернаторе. Звали солдата Аким. Шелковая, волнами, серебристо-черная борода закрывала ему грудь, усы Аким заводил за уши. Высокий, медногрудый, каждое слово у него так и звенело, губернаторов швейцар налил всем по полной чаре, мужикам, женщинам, хозяйке Семена и своей, дочкам, двум своим и двум Семеновым.
— С праздником! Сегодня не пьем, а приобщаемся!
Выпил, вытаращил глаза и замер, затая дух:
— Прошла, мать честная! Соколом пролетела! — и зашумел: — Гость дорогой, а ты чего не пьешь? Слышал, слышал, что ты басурман. Только Аким — ого! Аким кого хошь выпить уговорит.
Семен переводил слова отставного солдата, перевел и эти, а потом сказал строго Акиму:
— Не трогай гостя! У каждого народа свой закон.
— Ну, прости, брат! Не пей, так хоть закусывай! — Аким подкладывал гостю пироги. — Слышал я от Семена, что печалуешься ты о бедствиях своего народа. Добрая душа, значит! А только я тебе скажу: нынче тебя никто у нас слушать не станет. Нынче у нас — о! — неспокойно. Про Пугача слышал?
— Что такое "пугач"? — спросил Махтумкули у Семена.
— Человек такой, из казаков. Беглый. Разбойник, одним словом. Так дворяне наши его величают. Наши дворяне — ваши беки. А простые люди говорят, что он истинный природный царь Петр Третий. Я тебе ведь сказывал. Помнишь?
— Помню.
— Так вот этот Пугач, — продолжал Аким, — на самом-то деле царь наш, сбежавший от злодейки-жены, стоит за народ. Поднял он великую бурю. Нынче все толстосумы дрожат, а особливо помещики. Ты говоришь, в рабство у вас людей угоняют всякие злодеи. Мне Семен про тебя рассказывал, я знаю. Так вот я тебе скажу, а у нас все крестьяне — рабы. Помещики — это у нас как бы настоящие люди, а крестьяне — это как бы скотина. Крестьян и покупают, и до смерти забивают кнутами. Могут у матери дите отнять и другим господам уступить за жеребенка. А могут всех детишек за лукошко с породистыми щенятами… Такая вот у нас жизнь.
— А ну-ка, бросьте ваши разговоры! Кум с кумой христосоваться идут! — сердито сказала жена Семена.
Появились новые люди, и Махтумкули, сказавшись больным, ушел на другую половину дома.
Было слышно, как русские поют и пляшут; но из головы не шли слова отставного солдата Акима: "Могут у матери дите отнять и другим господам уступить за жеребенка…"
Не пошел Махтумкули к губернатору. Разве будет губернатор думать о бедах чужого народа, если свой народ для него дешевле скотины.
25
Чурек был залежалый и чорба успела прокиснуть. Да и есть с утра не хотелось. Однако он знал, что поесть нужно, и поплотней, чтоб не думать потом о бренной плоти.
Махтумкули набросал в миску лепешки и съел всю эту невкусную и не очень-то съедобную тюрю.
Съел, выпил чаю, взял чернильницу, перья, бумагу и пошел в горы.
Халат его был стар, чарыки стоптаны, одна лишь косматая шапка новая.
По едва приметной тропе, пробитой его ногами, он поднялся в горы к давно облюбованному месту.
Словно руками отесанный камень, обросший диким виноградом, заслонял от глаз и от ветра крошечную пещерку.
Махтумкули потрогал, как всегда, шершавый бок камня — поприветствовал, — сел на солому, которую натаскал сюда сразу после уборки хлеба, положил лист бумаги на колено и задумался.
Он сочинял свое главное произведение. Он верил, что это главное. Бурная жизнь странника осталась позади. Многое получив от мира, повидав земли и народы, он понимал, что наступило время — отдавать. Из тысячи слов он искал одно, ибо каждое слово его дастана должно быть золотым, а весь дастан уподобиться золотому слитку.
Он называл свою книгу "Владеющий речью попугая". Попугай на Востоке и в Индии — птица почитаемая. Персидские поэты не раз обрабатывали сюжеты из индийской "Шукасаптати" — семьдесят рассказов попугая. Махтумкули не обрабатывал чужие сказки, он писал о том, что ви́дел на земле, что пережил и передумал.
Вот уже пять лет писал он своего "Владеющего речью попугая", и это были счастливые годы.
Кто-то посмеивался над шахиром, кто-то осуждал Акгыз, опустившуюся и запустившую хозяйство. Махтумкули не то чтобы не замечал неуютной своей жизни, она ему не мешала. Удобства и пиры отвлека́ют от мыслей о вечном, за удобства и сверкающий халат нужно плати́ть истино́й.
— Почему ты не возьмешь