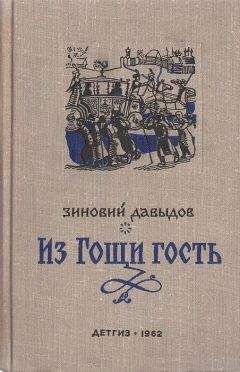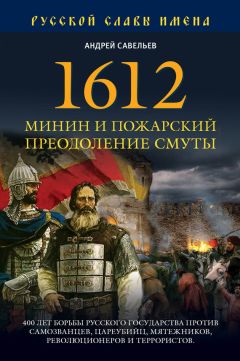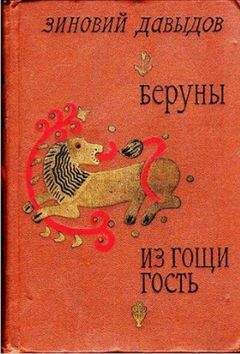и тихонько заскулила.
Немало, видно, довелось и Жуку вытерпеть в смутное время, в разоренный год. Жук даже был на волосок от смерти, и вот как все это произошло.
В памятный мартовский день, когда шляхта жгла Москву и шел бой во Введенском острожке, Жук оставался дома, запертый Сенькой в клеть при кузнице.
В клети было темно и пахло неинтересно — окалиной и старыми рогожами. Жук сразу заскучал и попробовал повыть. Но день выдался такой, что никому не было дела до какой-то собачонки в клети. Тем более что собаки лаяли и выли по всей Сретенке, встревоженные огнем и дымом, пальбой и всеобщей сумятицей. Однако Жук выть перестал, как только убедился, что ни Сенька, ни Воробей, ни Арина с объедками в чашке в клеть к нему не идут. И рядом, в кузнице, тоже никого нет: молот не звенит, и Андреян подле наковальни не топчется. Тогда рассудительный пес зевнул, подумал и пришел к заключению:
«Чем зря маяться, лучше соснуть маленько. В клети неприютно, а когда спишь, может такое присниться, такое хорошее, чего наяву никогда не бывает».
Решив так, Жук, должно быть, пожелал себе приятных сновидений и зарылся в кучу тряпья и старых рогож.
Но ожидания Жука на этот раз не оправдались: сон его был тревожен. Песик не мог даже понять толком, что, собственно, ему снится.
Сначала на Жука стали во сне словно наплывать какие-то большие радужные пластины. Это бы еще ничего! Но скоро все они покрылись сплошной ржавчиной и стали издавать такие скрежещущие звуки, что Жуку прямо невмоготу стало. Терпеть, впрочем, пришлось недолго. Ржавчина проела все насквозь, и пластины рассыпались в прах без остатка. Жук только чихнул во сне.
Больше Жуку не снилось ничего, но на него словно навалилось что-то. Ощущение было такое, как если бы он застрял в подворотне или же ему хвост телегой прищемило, Жук, верно, даже рад был бы проснуться, но продолжал спать и маяться даже во сне.
Проснулся Жук только оттого, что близко грохнуло что-то и в клеть к нему сквозь все щели полез сизыми струями едкий дым. Почуяв беду, собака стала метаться по всей клети, бросаться на стены, подпрыгивать высоко вверх, царапать ногтями землю, лаять и выть. Со двора к Жуку проникали плач и крики, а все щели в клети вдруг засветились и пошли играть сотнями язычков.
В клети запахло паленой шерстью. Бросаясь из стороны в сторону, Жук мазнул хвостом по горящей стене и почувствовал нестерпимую боль. В отчаянии он бросил все свое тело на вихлявшую дверку, и колок по ту сторону, видимо, выскочил из накладки. Во всяком случае, дверка распахнулась, и Жук очутился в горящей кузнице. Хорошо, что она не была заперта. Одним прыжком Жук перемахнул через верстак и наковальню, юркнул под окружавший кузницу забор и очутился на большом дворе.
Хвост у Жука пылал, как лучина. От боли собака не видела ничего, что творилось вокруг. Она помчалась по улице, но вдали улицу перегородила сплошная стена огня. В мгновение ока Жук свернул в первый же переулок, потом свернул еще куда-то, вынесся в поле, сорвался где-то с обрыва и угодил с хвостом и головой в огромный сугроб. Это и спасло Жука.
Собака сразу почувствовала облегчение. В сугробе хвост потух в одну минуту, и шерсть вокруг него перестала дымиться. Жук кое-как выбился из сугроба и присел на рыхлом снегу. Так было лучше.
Вокруг были поле, голубоватый снег. В той стороне, откуда Жук прибежал, полыхало огромное зарево, и небо там светилось, как красная медь. И нигде ни одной живой души: ни человека, ни собаки, ни лошади, ни коровы. Страшное одиночество при пустом брюхе и неизвестном будущем! И Жук заплакал, подвывая долго и безутешно. Никто не слышал его воя — может быть, снег? Может быть, ветер?.. Но чем могли они помочь Жуку!
Была уже ночь, когда Жук поднялся и стал зализывать обожженное место. Потом он побрел к городу, но войти в него не осмелился. Огонь распространился еще шире и, казалась, рвался прямо к Жуку, чтобы снова поджечь ему хвост или что-нибудь другое. Нет уж! С Жука хватит и того, что весь крендель у него обуглился и вот-вот отвалится совсем. И Жук побежал стороной, по закраинам города, бежал долго и по дороге наткнулся на обгорелую, но еще живую ворону. Не подумав о том, хорошо это или плохо, Жук съел ворону и пустился дальше.
Жук бежал и нюхал. Пахло чем угодно, но только не человеческим жильем, не своим братом собакой, ничем таким, с чем Жук сжился и к чему давно привык. Когда в Лужниках Жук вышел к Москве-реке, он заметил, что в эту сторону огнем не пышет и сюда не стелется дым, от которого задохнуться впору.
Невдалеке от дороги что-то чернело на белом снегу. Жук не смог удержаться, чтобы не полюбопытствовать. Такая уж была у него собачья привычка. Соблюдая все меры предосторожности, Жук сошел с дороги и пошел на черный предмет.
Предмет оказался бочкой, пустой бочкой, которая лежала на снегу. В бочке ничего не было, кроме снега и слежавшегося кома прелой пакли. Жук обнюхал паклю и остался доволен. Он разгреб снег, растрепал паклю и устроился в бочке ночевать. Зарево над Москвой по-прежнему отпугивало его, и идти дальше он не хотел.
Немного щемило в том месте, откуда рос хвост. Немного задувало ветром с поля. Но Жук спал… крепко спал… Всю ночь напролет ему снился Сенька.
Когда Жук проснулся, было уже светло. Он выбрался из бочки, зевнул и потянулся.
Огня над Москвой не было. За ночь пламя, пожрав все, что можно было, заглохло. Только синие дымы еще кое-где поднимались столбами над великим пожарищем. Такое положение успокоило Жука. Он встряхнулся и присел на мягком снегу, усеянном черными точками гари.
Шагах в ста от себя Жук разглядел покосившуюся хибарку, обмазанную глиной и выбеленную известью. На крыше хибарки лежал огромный ком слежавшегося снега, похожий на белую шапку, сдвинутую набекрень. Из крохотного оконца почти под самой стрехой вился дымок. Хибарка топилась по-черному, печной трубы на крыше не было.
Жук повел мордой, принюхался и почуял знакомый запах. От хибарки тянуло как и от избушки, в которой жил на Сретенке Сенька.
Жук почувствовал, что теплая волна хлынула у него от сердца и растеклась по всем