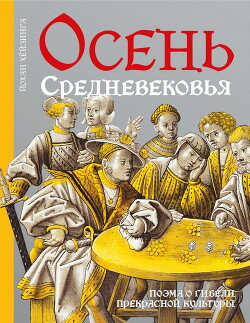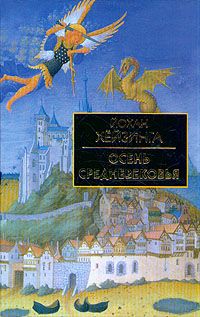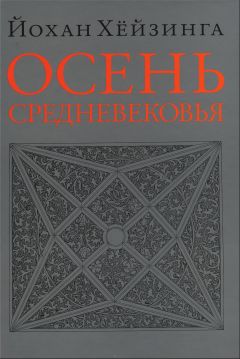Il n'a membre ne facture
Qui ne sente sa pourreture,
Avant que l'esperit soit hors,
Le c?ur qui veult crevier au corps
Haulce et soulieve la poitrine
Qui se veult joindre a son eschine.
-- La face est tainte et apalie,
Et les yeux treillies en la teste.
La parolle luy est faillie,
Car la langue au palais se lie.
Le poulx tressault et sy halette.
Нет в нем ни части и ни члена,
Что не испытывали б тлена;
Душа хоть и не отлетела,
Но сердце рвется вон из тела,
Колыша и вздымая грудь,
К хребту хотящую примкнуть.
Лице бледнеет, словно тает,
В очах его уж меркнет свет,
А там и речь оскудевает,
Язык к гортани прилипает.
Ртом ловит воздух, пульса нет.
.....................................................
Les os desjoindent a tous lez;
II n'a nerf qu'au rompre ne tende.[33]
Все кости в стороны торчат,
Напрягшись, чуть не лопнут жилы.
Вийон все это умещает в половине куплета, и при этом куда более выразительного[34]. Каждый видит уготованную ему участь.
La mort le fait fremir, pallir,
Le nez courber, les vaines tendre,
Le col enfler, la chair mollir,
Joinctes et nerfs croistre et estendre.
Заставит смерть дрожать, бледнеть,
Суставы -- ныть, нос -- заостряться,
Раздуться -- горло, плоть -- неметь,
Сосуды -- опухать и рваться.
И тут же вновь чувственный образ, который неизменно вплетается во все эти устрашающие картины:
Corps femenin, qui tant es tendre,
Poly, souef, si precieux,
Te fauldra il ces maulx attendre?
Oy, ou tout vif aller es cieulx.
И телу женску -- ей предаться,
Всю прелесть -- мерзостью сменить,
С бесценной нежностью расстаться?
Да, -- иль на небе вживе быть.
Нигде все то, что смерть открывала взору, не было собрано вместе с такой впечатляющей силой, как на кладбище des Innocents в Париже. Все, к чему могло бы быть отнесено словечко "macabre", приводило душу в состояние трепета. Все было направлено здесь на то, чтобы придать этому месту черты мрачной святости и красочной, разнообразной жути, к которым позднее Средневековье испытывало такую охоту. Даже святые, коим были посвящены и церковь и кладбище, -- невинные младенцы, умерщвленные вместо Христа, -- горестной, мученической своей смертью вызывали то жестокое умиление и кровавое умягчение сердца, которых жаждала эта эпоха. Именно в этом столетии почитание Невинноубиенных младенцев получает особое распространение. Имелось немало реликвий вифлеемских младенцев: Людовик XI преподнес в дар посвященной им церкви в Париже "un Innocent entier" ["одного Невинноубиенного младенца"], заключенного в большую хрустальную раку[35]. Кладбище des Innocents было наиболее желанным местом захоронений. Один парижский епископ велел положить немного земли с кладбища Невинноубиенных младенцев себе на могилу, раз уж он не мог быть там похоронен[36]. Богатые и бедные лежали там бок о бок, хотя и недолго, потому что потребность в месте для захоронения была столь велика для этого кладбища, правом погребения на котором обладали двадцать приходов, что по прошествии некоторого времени кости извлекали, а надгробия пускали в продажу. Молва утверждала, что в земле этого кладбища уже через девять дней от покойника оставались одни только кости[37]. Кости и черепа были грудами навалены в склепах, в верхней части галерей, обрамлявших кладбище с трех сторон: тысячами белели они там, открытые взорам, являя собою наглядный урок всеобщего равенства[38]. Под аркадами тот же урок можно было извлечь из изображений Пляски смерти, снабженных стихотворными надписями. На возведение этих "beaux charniers" ["прекрасных склепов"] пожертвовал деньги среди прочих и маршал де Бусико[39]. Герцог Беррийский, который хотел быть похороненным на этом кладбище, позаботился об украшении церковного портала высеченной в камне сценой, изображавшей трех мертвецов вместе с тремя живыми. Позднее, уже в XVI в., на кладбище была установлена громадная статуя Смерти, ныне находящаяся в Лувре и представляющая собой единственное, что уцелело из всего того, что когда-то там было.
Это место для парижан XV столетия было своего рода мрачным Пале-Роялем 1789 г.[10*] Среди непрерывно засыпаемых и вновь раскапываемых могил гуляли и назначали свидания. Подле склепов ютились лавчонки, а в аркадах слонялись женщины, не отличавшиеся чересчур строгими нравами. Не обошлось и без затворницы, которая была замурована в своей келье у церковной стены. Порой нищенствующий монах проповедовал на этом кладбище, которое и само по себе было проповедью в средневековом стиле. Бывало, там собиралась процессия детей (до двенадцати с половиной тысяч, по словам Парижского горожанина) -- и все со свечами, -- чтобы пронести un Innocent[11][*] до Notre Dame и обратно. Устраивались там и празднества[40]. До такой степени все приводящее в трепет сделалось повседневностью.
В поисках прямого воплощения смерти, когда все неизобразимое должно было быть отброшено, лишь наиболее жестокие стороны смерти внедрялись в сознание. В макабрическом ви?дении смерти начисто отсутствует все нежное и элегическое. И в основе своей это очень земной, своекорыстный лик смерти. Это не скорбь из-за потери любимого человека, но сетование вследствие собственной приближающейся кончины, воспринимаемой только как несчастье и ужас. Здесь вовсе нет мысли о смерти как об утешительнице, о конце страданий, о вожделенном покое, о завершенном или же неоконченном деле всей жизни; никаких нежных воспоминаний, никакого успокоения. Ничего от "divine depth of sorrow" ["божественных глубин скорби"]. И только единственный раз прозвучала более мягкая нота. Смерть обращается к увлекаемому в пляске поденщику:
Laboureur qui en soing et painne
Avez vescu tout vostre temps,
Morir fault, c'est chose certainne,
Reculler n'y vault ne contens.
De mort devez estre contens
Car de grant soussy vous delivre...
О пахарь, ведь тебе не стерть
Из жизни сей труды всечасны,
Прими же неотвратну смерть,
И бегство, и борьба напрасны.
Все чувства будут в том согласны:
Смерть отрешит от всех забот...
Но батрак все же оплакивает свою жизнь, которой он так часто хотел положить конец.
У Марциала Оверньского в его Пляске смерти девочка просит мать хотя бы сохранить ее куклу, кости для игры в бабки и ее такое красивое платьице. Проявления чувства по отношению к детям чрезвычайно редки в литературе позднего Средневековья; для них не оставляет места тяжеловесная чопорность большого стиля. Собственно говоря, дети не знакомы ни духовной, ни светской литературе. Когда Антуан де ла Салль в Le Reconfort[41] [Утешении] желает оказать духовную поддержку благородной даме, потерявшей своего малолетнего сына, единственное, на что он оказывается способен, -- это поведать ей о другом ребенке, который, будучи взят заложником, лишился жизни еще более жестоким образом. Для преодоления скорби он не может предложить ей ничего, кроме совета избегать привязанности ко всему земному. Следующее затем продолжение известно как народная сказка о маленьком детском саване: умерший ребенок является своей матери и просит ее больше о нем не плакать -- и тогда саван его просохнет. Здесь внезапно слышится тон гораздо более проникновенный, чем во всех этих повторяемых на тысячу ладов memento mori. Не следует ли думать, что народные сказания и песни этого времени сохраняли те чувства, которые едва-едва были знакомы литературе?