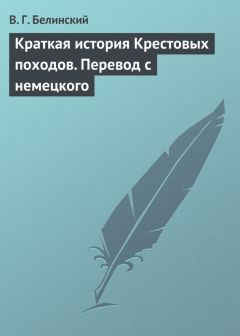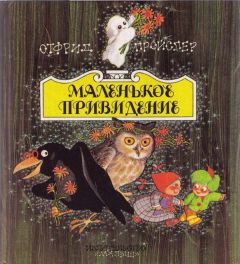уселся рядом с ним на скамейку и не подтолкнул его.
— Мне надо кое-что у тебя спросить…
— Да? — сказал Крабат, стараясь не показывать раздражения.
Лобош был полон тревоги.
— Что Андруш тут только что говорил — и Сташко! Если дойдёт до ушей Мастера…
— А, — бросил Крабат. — Это же просто дурацкие пустые речёвки, разве ты не замечаешь?
— А мельник? — возразил Лобош. — Если Лышко ему об этом расскажет… Представь себе, что он с ними обоими сотворит!
— Ничего он с ними обоими не сотворит, вообще ничего.
— Ты же сам в это не веришь! — крикнул Лобош. — Он этого никогда не потерпит!
— Сегодня вполне, — сказал Крабат. — Сегодня нам можно ругаться на Мастера, прочить ему чуму и холеру в живот — или даже сатану, как ты слышал; за это он на нас сегодня не обидится, напротив.
— Нет? — спросил Лобош.
— Кто раз в году даст выход своей злости, — сказал Крабат, — тот в остальной год куда легче подчинится во всём, чего от него ни потребуют — а такого, как ты заметишь, на мельнице в Козельбрухе великое множество.
* * *
Крабат больше не был прежним Крабатом. В последующие дни и недели он жил не под солнцем, не под луной — не здесь где-то. Он делал, что надо было делать, он разговаривал с парнями, он отвечал им на вопросы — но на самом деле он был далеко от всего, что происходило на мельнице: он был возле Певуньи, и Певунья была возле него, и мир вокруг был всё ярче, всё зеленее с каждым днём.
Никогда раньше Крабат не обращал внимания, как много существует всевозможной зелени: сотня оттенков травяной зелени, зелень берёз и ив, между ними зелень мха, иногда с мазком голубоватого, молодая, пылающая зелень на берегах мельничного пруда, на каждой изгороди, на каждом ягодном кусте — и тёмная, сдержанная старая зелень сосен в Козельбрухе, в иные часы мрачная, и зловещая, и почти чёрная, но порой, особенно ближе к вечеру, вспыхивающая, словно в позолоте.
Несколько раз за эту неделю, хотя не очень часто, Крабат и по ночам грезил Певуньей. Это был в основных своих чертах всегда одинаковый сон.
Они шли вместе через лес или сад со старыми деревьями, было по-летнему тепло, и Певунья была одета в белую блузу. Когда они проходили под деревьями, Крабат клал руку на её плечо. Она наклоняла голову, так что он чувствовал щекой её волосы. Платок с головы слегка сползал ей на шею, и он хотел, чтоб она остановилась и повернулась к нему, потому что тогда он смог бы поглядеть ей в лицо. Но в то же время он знал, что будет лучше, если она этого не сделает: тогда и никто другой не сможет узнать её, обладай тот некто властью подсмотреть его сны.
* * *
От товарищей по работе не укрылось, что с Крабатом что-то произошло, что в корне его поменяло — а Лышко ещё раз предпринял попытку закинуть удочку. Это было на неделе после Троицы. Ханцо поручил Крабату и Сташко наточить мельничные жернова. Они поставили их на козлы около дверей мукомольни и молотками углубляли бороздки, от середины жерновов ведущие наружу. Аккуратно наносили они удар за ударом, чтобы получились острые края. Сташко между делом отошёл, ему надо было поточить своё затупившееся лезвие, на что требовалось время. Тут появился Лышко со стопкой пустых мучных мешков подмышкой. Крабат заметил его только тогда, когда тот остановился возле него и заговорил с ним — Лышко всегда подкрадывался бесшумно, даже когда это совершенно не было необходимо.
— Ну? — спросил он, подмигнув. — Как же её зовут? Она блондинка, или шатенка, или черноволосая?
— Кто? — ответил Крабат вопросом на вопрос.
— Ну — та, — пояснил Лышко, — о которой ты в последнее время всё думаешь. Или ты, может, считаешь, что мы слепые и не замечаем, что она вскружила тебе голову — во сне, может, или так… Я тут знаю одно хорошее средство, чтоб тебе помочь — и ты смог бы с ней встретиться, есть ведь опыт в таком, знаешь ли…
Он огляделся по всем сторонам, затем нагнулся к Крабату и прошептал ему на ухо:
— Тебе надо только сказать мне её имя — и всё дальнейшее я смог бы легко устроить…
— Прекрати! — сказал Крабат. — Не знаю, о чём ты болтаешь. Ты только от работы меня отвлекаешь своими глупостями.
В следующую ночь Крабату снова приснился сон о Певунье, который он уже знал. Вновь они проходили под деревьями, и вновь был тёплый летний день, только на этот раз они вышли к лужайке, что лежала посреди леса, и когда они выступили из-под деревьев, чтобы пересечь прогалину — по ним скользнула, едва они сделали несколько шагов, тень. Крабат набросил свою кофту Певунье на голову. «Скорей отсюда — он не должен видеть твоё лицо!» Он отдёрнул девушку назад, под защиту деревьев. Крик ястреба настиг его, пронзительный и резкий, будто нож вонзился ему в сердце — тут он проснулся.
После, вечером, Мастер вызвал к себе Крабата. Нехорошее чувство было у него, когда он встал перед Мастером и увидел направленный на себя взгляд его единственного глаза.
— Мне надо с тобой поговорить, — мельник смотрелся, как судья, в своём кресле, со скрещенными руками и каменным выражением лица. — Ты знаешь, — продолжил он, — что я высокого мнения о тебе, Крабат, и что в Тайной науке ты можешь добиться кое-чего такого, что никому из твоих товарищей не под силу. Но всё же в последнее время меня посещают сомнения, могу ли я тебе доверять. У тебя есть тайна от меня, ты скрываешь от меня что-то. Разве не умнее было бы держать передо мной ответ добровольно, не заставляя меня за тобой шпионить? Скажи мне откровенно, в чём дело — а после давай обдумаем, как мы вместе могли бы поступить для твоего блага: для этого ещё есть время.
Крабат не колебался