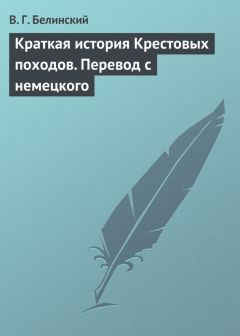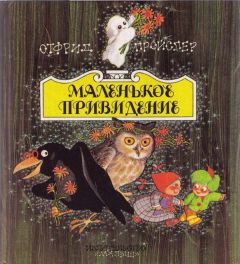ещё раз обдумать, что он хочет сказать Певунье. Небо было высоким и ясно-голубым, как бывает только осенью — и пока он так глядел вверх, веки у него отяжелели.
Когда он проснулся, Певунья сидела возле него на лужайке. Он не мог понять, почему она внезапно оказалась рядом. Она сидела так, терпеливо ожидая, в своей плиссированной воскресной юбке, с пёстрым, в цветочек, шёлковым платком на плечах, волосы скрыты под льняным белым чепчиком, окаймлённым кружевами.
— Певунья, — спросил он, — ты уже долго здесь? Почему ты меня не разбудила?
— Потому что у меня есть время, — сказала она. — И я тут подумала, что будет лучше, если ты сам проснёшься.
Он оперся на правый локоть.
— Давно уже, — начал он, — как мы не виделись.
— Да, уже давно, — Певунья потеребила свой платок. — Только во сне ты иногда бываешь со мной. Мы проходили под деревьями, помнишь?
Крабат чуть засмеялся.
— Да, под деревьями, — сказал он. — Было лето — и было тепло — и ты была в светлой блузе… Это я помню, словно бы всё вчера происходило.
— И я тоже помню.
Певунья кивнула, она повернула к нему лицо.
— Что это — о чём ты хотел со мной поговорить?
— А, — откликнулся Крабат, — я об этом почти забыл. Ты могла бы, если хочешь, спасти мне жизнь…
— Жизнь? — спросила она.
— Да, — сказал Крабат.
— И как?
— Рассказать-то быстро.
Он сообщил ей, в какую опасность он попал и как она может ему помочь — при условии, что отыщет его среди воронов.
— Это должно быть нетрудно — с твоей помощью, — заметила она.
— Трудно, нет ли, — возразил ей Крабат. — Если только ты понимаешь, что поплатишься и собственной жизнью, если не пройдёшь проверку…
Певунья не колебалась ни мгновения.
— Твоя жизнь, — сказала она, — стоит моей. Когда мне нужно прийти к мельнику и попросить тебя освободить?
— Этого, — проговорил Крабат, — я тебя сегодня ещё не могу сказать. Я пошлю тебе весть, когда будет пора, в крайнем случае — через друга.
Затем он попросил её описать ему дом, в котором она живёт. Она сделала это и спросила его, есть ли у него с собой нож.
— Вот, — сказал Крабат.
Он протянул ей нож Тонды. Лезвие было чёрным, как всегда в последнее время — но сейчас, когда Певунья взяла его в руки, нож стал блестящим.
Она развязала чепчик, она отрезала прядь своих волос; из неё она свернула узкое кольцо, которое дала Крабату.
— Пусть оно будет нашим знаком, — сказала она. — Если твой друг принесёт его мне, я буду уверена, что всё, им сказанное, идёт от тебя.
— Спасибо тебе.
Крабат положил колечко из волос в нагрудный карман своей рабочей куртки.
— Тебе надо теперь идти обратно в Шварцкольм, а я приду позднее, — сказал он. — И мы не знаем друг друга на ярмарке — не забудь этого!
— «Не знаем друг друга» — значит «не танцуем друг с другом»? — спросила Певунья.
— В общем-то нет, — заметил Крабат. — Но нельзя слишком часто, ты поймёшь.
— Да, это я понимаю.
С этими словами Певунья поднялась, расправила складки своей юбки и пошла обратно в Шварцкольм, где между тем музыканты уже заиграли ярмарочную музыку.
Перед зданием постоялого двора разместили столы и скамейки — с четырёх сторон от танцевальной площадки, где молодёжь уже старательно кружилась, когда подошёл Крабат. Старшие солидно восседали на своих местах и пристально глядели на парней и девушек; мужчины, курившие трубки, за кружками пива, казались почти тщедушными в коричневых и голубых воскресных костюмах — рядом с женщинами, которые в своих праздничных нарядах гляделись как пёстрые наседки и за ярмарочными пирогами и молоком с мёдом болтали о молодых на танцевальной площадке: кто там кому подходит, а кто кому не очень или вовсе нет, и слышали ли уже, что этот и та скоро поженятся, а вот между младшеньким кузнеца и бартошевской Франто почитай что всё кончено.
Музыканты на своём помосте у стены дома — четыре пустые бочки служили фундаментом для платформы, её устроили из уложенных одна на другую створок овинных ворот, которые староста велел притащить сюда для этой цели, — музыканты играли на скрипках и кларнетах, зазывая на танцы, не был забыт и контрабас с его «бум-бум». И стоило им разок отложить инструменты, чтобы освежиться пивом — что вообще-то было их полным правом — тут же со всех мест закричали:
— Эй вы там, наверху! Вы тут чтобы играть или чтобы квасить?
Крабат смешался с молодёжью. Он танцевал со всеми девушками, без разбора и бесшабашно, с кем придётся, то с одной, то с другой.
И с Певуньей он танцевал время от времени. Он танцевал с ней как с другими, хоть ему и трудно было уступать её другим парням.
Певунья смекнула, что они не имеют права себя выдать. Они болтали друг с другом, как обычно болтают за танцами, всякую чушь и глупости. Только её глаза всерьёз говорили с Крабатом, но это замечал лишь он один — и когда замечал это, то избегал, насколько возможно, встречаться с ней взглядом.
Так и случилось, что даже у крестьянок за столами не зародилось никаких подозрений, и старуха, что была на левый глаз слепа (Крабат обнаружил её лишь сейчас), не составляла исключения.
Однако с этого момента Крабат предпочёл больше не приглашать Певунью на танец.
И так уже недолго осталось до наступления вечера. Крестьяне и их жёны пошли по домам, парни и девушки отправились с музыкантами в овин — там на току они продолжали танцевать.
Крабат остался снаружи. Он счёл, что будет умнее сейчас пойти домой, обратно в Козельбрух. Уж Певунья поймёт, если теперь он