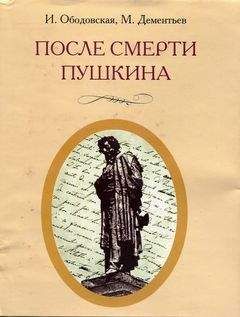НОВЫЕ НЕУСТАННЫЕ ПОИСКИ, НОВЫЕ ЦЕННЫЕ НАХОДКИ
Письма больше чем воспоминания: на них запеклась кровь событий, это - само прошедшее, как оно было, задержанное и нетленное.
Герцен
Предлагаемая вниманию читателей вторая книга И. М. Ободовской и М. А. Дементьева непосредственно, можно сказать, кровно, связана и по своему содержанию, и логикой научного поиска с их первой книгой — «Вокруг Пушкина», появившейся в свет в результате изучения обширнейшего архива семьи Гончаровых, членом которой была семнадцатилетняя Наташа Гончарова — невеста, а затем жена Пушкина. Архив этот почти не привлекал к себе исследователей-пушкинистов. Несмотря на его огромные размеры, наполненность самыми разнообразными материалами, копившимися на протяжении более полутора веков (с конца XVII века), в подавляющем большинстве своем он действительно не имел отношения ни к жене Пушкина, ни тем более к самому поэту. Правда, в этих залежах хозяйственных и промышленных документов, бухгалтерских книг, связанных с фабричной деятельностью его хозяев, записных книжек домашних расходов и т. п. имелись и пакеты с семейными письмами, тоже отпугивавшими неразборчивостью почерка, словно бы малой значительностью содержания и, главное, в силу того заранее недоброжелательного и пренебрежительного отношения как к семье жены поэта, так в особенности к ней самой, которое господствовало в пушкиноведении тоже на протяжении очень длительного времени, почти до последних дней включительно.
И все же, движимые любовью к Пушкину, И. М. Ободовская и М. А. Дементьев отважно взялись за тщательный сплошной просмотр всего гончаровского архива, обратив, естественно, особое внимание на эпистолярную его часть. И этот тяжелый и, как считалось, если не вовсе пустой, то едва ли сколько-нибудь плодотворный труд был сторицею вознагражден.
Грязный поток сплетен, злоречия, лжи, клеветы, злобных вымыслов и гнусных наветов на Пушкина, его жену и обеих ее сестер возник уже при жизни поэта. После его трагической гибели этот поток стал еще свободнее и шире разливаться. Особенно благодатную почву обрела версия о Н. Н. Пушкиной как главной виновнице в высших кругах общества, среди придворно-светских «львиц» (многие из них к тому же сами страстно увлекались Дантесом), относившихся со скрытым, а то и явным недоброжелательством к затмевавшей всех своей красотой жене поэта. Они пренебрежительно отзывались о ней, столь действительно на них непохожей, как о красивой, но недалекой и пустой кукле, занятой лишь нарядами, балами, упоенной светскими триумфами, неслыханными успехами у мужчин, а своим безудержным, нарушающим все «приличия» кокетством сумевшей свести с ума тоже столь избалованного успехами у женщин молодого красавца француза и тем самым погубившей мужа, не будучи способной понять и оценить ни его самого, ни его великого значения. В более смягченных тонах версию о — пусть несознательной и невольной — вине Натальи Николаевны принимали поначалу и некоторые столь близкие к поэту люди, как семья Карамзиных и даже такой издавна тесно связанный с Пушкиным человек, как П. А. Вяземский.
Не внесло, по существу, никаких поправок в эту прочно сложившуюся традицию сразу же, по горячим следам написанное, сотканное из слез и пламени стихотворение Лермонтова «Смерть поэта», в насыщенной болью, презрением и гневом концовке которого он, подхватив на лету выпавшее из рук Пушкина знамя, обрушился — во многом почти прямо его словами — на тех, кого автор «Моей родословной» навсегда пригвоздил к позорному сатирическому столбу, — правящую клику носителей и проповедников реакционного застоя, «свободы, гения и славы палачей», как Лермонтов, прозорливо и прозрачно, разумея здесь истинных виновников трагедии на Черной речке, прямо (для многих современников это звучало почти поименно) их окрестил, угрожая этим людям с «черной кровью» в жилах неизбежным и беспощадным, не только «Божьим», но и земным — народным — судом.
Лермонтовская «Смерть поэта», молниеносно распространившись, как в свое время пушкинские «вольные» стихи, в огромном числе списков, получила широчайшую популярность, ввела почти никому не ведомого дотоле автора, о котором было лишь немногим известно, что он «пописывает» кое-какие «стишки», в первый ряд писателей-современников в качестве законного, наряду с Гоголем, «наследника» Пушкина. Но именно всем этим он стал на тот же, не только типологически — по обстоятельствам того времени — схожий, но и преемственно почти полностью совпадающий, роковой пушкинский путь. За «непозволительное стихотворение», которое в правящей верхушке восприняли как «воззвание к революции», он был тут же — по пушкинским следам — отправлен в ссылку. А всего через четыре года, сопоставимые (по силе творческой энергии и развертывающемуся с таким же ослепительным блеском и столь же стремительно-гениальному дарованию, ведущему на вершины мирового искусства слова) со своего рода болдинской осенью Пушкина, двадцатисемилетний поэт был, как и он, убит на дуэли, возникшей словно бы по случайному и совсем пустому поводу и по вине его самого (тоже очень устраивавшая и усиленно насаждавшаяся версия), а на самом деле (есть многие основания считать) спровоцированной его политическими недругами и осуществленной столь же «хладнокровно» нацеленной рукой — на этот раз не иностранца, а русского, но с таким же «пустым» и «безжалостным» сердцем: Лермонтов, как известно, выстрелил первым, но намеренно, не желая даже ранить противника, в воздух, а тот, не обращая на это ни малейшего внимания, застрелил его наповал, попав в самое сердце.
«В нашу поэзию стреляют удачнее, чем в Луи Филиппа (тогдашний французский король, позднее свергнутый революцией 1848 г. — Д. Б.). Вот второй раз не дают промаха», — писал близкому приятелю П. А. Вяземский. Эти очень точные и вместе с тем весьма многозначительные слова прямо свидетельствуют, что Вяземский отлично понимал: между двумя этими дуэлями имелась не только типологическая, но и прямая, непосредственная связь, определившая, кстати, хотя и иную, но по существу аналогичную, трагическую судьбу Гоголя. Был заключен в словах Вяземского и своего рода предупреждающий урок тем, кто попытался бы выступить против главных виновников роковой гибели обоих поэтов. Некоторые близкие Пушкину лица, в том числе и сам Вяземский, к данному времени, очевидно, если не все еще здесь знали, то о многом догадывались (концовка лермонтовской «Смерти поэта», за которую автор заплатил такой страшной ценой, можно думать, первой открыла им глаза), но могли ограничиваться лишь глухими намеками на это в доверительных разговорах или переписке. Зато сплетникам и клеветникам случившееся еще более развязало языки. А то, что глумление над памятью Пушкина и в особенности злословие по адресу его жены продолжалось, видно из слов того же Вяземского, который в статье о состоянии русской литературы в течение десяти лет после смерти Пушкина отважился впервые гласно сказать о «тайнах», окружавших его гибель, добавляя при этом, что время для их «разоблачения» не настало, и вместе с тем подчеркивая, что, когда это станет возможным, никакой столь желанной недругам поэта и его жены пищи для злоречия не окажется. Слова эти, казалось бы, должны были привлечь к себе самое серьезное внимание исследователей. Тем характернее, что даже много позднее видный историк и крупный пушкинист П. Е. Щеголев, автор наиболее монументального и получившего широкую известность труда «Дуэль и смерть Пушкина», приведя их, никаких напрашивавшихся в связи с этим выводов не сделал.