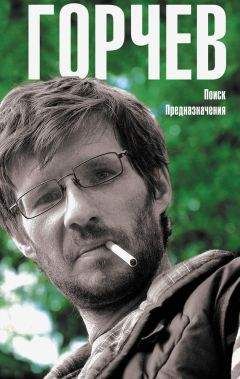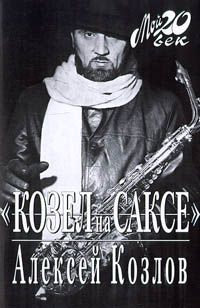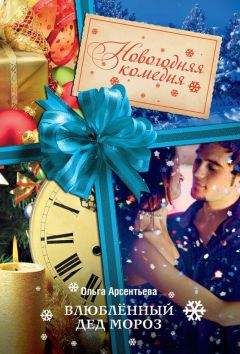Дмитрий Горчев
Поиск Предназначения
А вот мало кто думал. То есть думал, конечно, но всё забыл давно.
Вот живёшь ты, живёшь. Всегда тут жил, больше нигде. Ну, жизнь так себе – нормальная, другой жизни всё равно не бывает.
И вдруг ни с того ни с сего отключается у тебя вода, пищепровод, санузел, отопление, и стены вдруг начинают со скрипом сдвигаться как в рассказе Эдгара По. Что делать? Куда бежать? Почему это вообще? Хоть бы кто что-нибудь сказал!
В углу дыра, ты туда вниз головой – тупик. Ни вперёд, ни назад. Ни дыхнуть, ни пёрнуть, и вокруг шеи петля – смерть.
Но нет – нихуя не смерть. Сам выполз или выдавили, какая разница, но попал в Пиздец: ветер, мороз, свет такой, что с закрытыми глазами больно смотреть и ОРУТ. «Давай-давай! Ну-ну-ну-ну!! Пошёл-пошёл-пошёл!!!» Сам пошёл, блядь, козёл!
И думаешь ты: «А вот хуй я вам чего скажу! Сдохните тут все, и я сам тоже лучше сдохну, чем буду с вами разговаривать». А тебя – хуяк по жопе с размаху такой ручищей, как ковш у экскаватора! Хуяк ещё раз!
И тут ты понимаешь одну вещь, которую сейчас тоже забудешь, а потом однажды вспомнишь: что это всё – пиздец. ТУДА ты не вернёшься никогда ни за что и ни при каких обстоятельствах. Во многие места можно вернуться, но туда – нет. Это абсолютно и безнадёжно.
И тут ты начинаешь громко плакать от горя.
«Отлично, – кричат. – Отлично!»
И вешают на тебя жестяную бирку с номером девятнадцать.Какая смерть, когда такое солнце
У меня было самое лучшее детство, которое можно придумать. Мной совершенно никто не занимался в плохом смысле этого слова. То есть меня не заставляли делать то, чего я не хочу. Мать (которую я очень люблю и уважаю), при том, что я, разумеется, был всегда накормлен, умыт и постиран, решительно никак не участвовала в моём нравственном, интеллектуальном и прочем развитии, и потому этими делами я занимался сам. Я вообще доставлял очень мало хлопот – я даже практически никогда не болел. Организм мой, выпущенный ещё до наступления общества потребления, был удивительно прочен.
Я сам ходил записываться на секции гимнастики, потом баскетбола, хоккея с шайбой и бокса. Последняя, после того как мой лучший друг ударил меня по морде, мне очень не понравилась, и я в неё больше не ходил.
Мы с моим другом Мишей занимались совершенно нелепыми с сегодняшней точки зрения занятиями. Например, начитавшись Тура Хейердала, мы строили плот Кон-Тики и бороздили на нём бескрайнюю лужу прямо за нашим домом. Или же совершенно бескорыстно таскали для строителей кирпичи на соседней стройке. Потом увлеклись фотографией и развешивали на аптекарских весах фенидон, гидрохинон, буру и поташ. Клеили гэдээровские модели самолёта Ту-144. В мае перекапывали шесть соток на даче, а осенью выкапывали картошку обратно. Подросши, слушали ансамбль битлз и будто бы случайно хватали одноклассниц за жопу.
Я вот сейчас думаю, подводя уже некоторые итоги, что из того скудного потенциала, который был мне выдан (это не кокетство, я просто очень хорошо с собой знаком), я, благодаря вышеизложенному, надавил из себя в последующей жизни раза в два больше того, что там было.
«Мой дедушка Яков Абрамович…» – говорю я иногда эпическим голосом во время каких-нибудь посиделок после двухсот на рыло. (Мы знали! Мы знали! – радуются собутыльники.)
Да, так вот, мой дедушка Яков Абрамович вовсе не был моим дедушкой.
Дедушкой моим был Юрий Васильевич – человек с крайне энергичным и подвижным характером, из-за чего постоянно сидел то в тюрьме, то в немецком концлагере, а потом опять в тюрьме. Количество его детей до сих пор никем не учтено: среди них были даже азербайджанцы.
В последний, а правильнее сказать, в первый и последний раз я видел его за пару лет до его смерти в начале девяностых.
Это был очень аккуратный старичок в военной рубашке с хитрыми глазами, чем-то похожий на писателя Шолохова. Мы с ним выпили немного, поговорили про штрафную роту, про концлагерь Маутхаузен и генерала Карбышева, которого в этом концлагере превратили в ледяную глыбу.
Дед Юра, подобно писателю Достоевскому, очень скверно отзывался о поляках: «Вот французы нормальные были – если придёт к ним посылка, то всегда поделятся. А эти – накроются одеялом и жрут по ночам».
Потом я сходил ещё за одной бутылкой, потом ещё за одной. В результате дед дотащил меня до дома, благо, было не очень далеко, уложил на койку и пошёл в кухню пить чай и любезничать с моей совсем тогда молодой женой.
Могучий был старик. Мне бы хоть половину.
Да, а бабушка Галина Алексеевна, святая женщина, долго этого деда терпела – родила от него двух детей, в том числе моего отца, но даже у самой святой женщины терпение в конце концов кончается. Так что, когда уже после войны дедушка в очередной раз вернулся из лагеря или вообще непонятно откуда, бабушка его не пустила на порог и вышла замуж за Якова Абрамовича. Потому что надо же в конце концов хоть немного пожить спокойно. Тем более что и бабушка тогда сама совсем недавно вышла из лагеря, в который попала по идиотскому доносу мерзавца-соседа. Пробыла там, правда, по тем временам, недолго – всего два года.
Отца моего и тётушку кормила её мать, моя прабабушка – баба Оля. Ну как кормила – нечем было кормить. Хозяйства-то толком никакого не было – муж бабы Оли как сел в тридцатом за то, что отказался кого-то раскулачивать, так и сидел до пятьдесят третьего. А без мужика в деревне какое хозяйство? Да ещё в семье врага народа.
Сердобольные казахи тайком забрасывали им по ночам в окно баурсаки (это такие пончики, испечённые на бараньем жире). Тем и жили.
А Яков Абрамович был человек видный: он был директором лучшего в городе ресторана, который в аэропорту.
Я его помню, хоть и маленький совсем был тогда: он был всегда весёлый, лысый и круглый.
Директору ресторана в общем-то вовсе не обязательно уметь готовить пищу, но готовил он её замечательно. Баба Оля, царствие ей небесное, при том, что была большой прибаутошницей и знала все самые глубинные тайны народной мудрости, славилась ещё тем, что из любого набора продуктов неизменно готовила абсолютно несъедобное блюдо, которое, едва понюхав, отказывались есть вообще все.
Яков же Абрамович, вернувшись с работы, тоже нюхал это блюдо, тоже морщился, но незаметно, так, чтобы не обидеть тёщу, чего-то туда подсыпал, подливал, подмешивал и непременно добавлял туда чайную ложечку сахара. После чего блюдо съедалось всей семьёй за пятнадцать секунд.