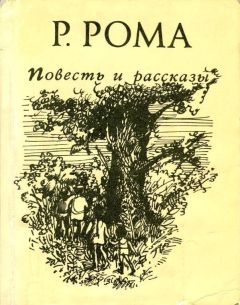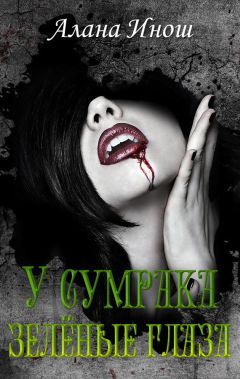Какой противный толстый нос с синими жилками у хозяина нашего Шкворня. Какие у него затравленные, угрюмые глаза.
Зачем мне нужно сейчас, через много лет, помнить его с такими подробностями? Помнить его собаку Милку — коричневую, встрепанную, с неряшливым черным пятном на боку? Помнить каждое дерево в саду, каждый дом на нашей улице, почти всех соседей, которые жили вокруг?
Но почему-то моя память, сохранившая так много мелочей детства, почти не оставила мне воспоминаний о матери, умершей в возрасте тридцати семи лет.
Мне так хотелось воскресить ее в воспоминаниях, но оказалось, что только один эпизод задержался в моей легкомысленной памяти. Я помню, как меня, сонную, ночью несли куда-то из дома под грохот и свист. Утром я не раз просыпалась в погребе.
Кругом шла непонятная разноцветная война: красные выбили из Полтавы зеленых, зеленые и белые ворвались в Лубны, красные гонят белых по всем фронтам… Красных еще называют «наши».
В городе зеленые. Мама не ходит в школу учить детей. Лена, старшая сестра, не ходит учиться — школы закрыты. Мы сидим дома. В окна всовываются лошадиные морды, страшные люди требуют водки и еды.
Отец заболел тифом. Он врач. Меня и Лену отправляют жить к бабушке. Когда мы возвращаемся, отец, неузнаваемый, желтый, ходит по комнате, держась за стены. Потом он, опираясь на палочку, собирается идти на работу в больницу.
Мама говорит:
— Ты же совсем слабый.
— А доктор Виноградов умер, — отвечает отец и уходит.
Родилась сестра. Она мне кажется бессмысленной зверюшкой, напоминающей человека и от этого еще более неприятной. Все с ней без конца возятся. Лена и мама все время торчат над ней крючками. Я поминутно дуюсь, обижаюсь, но этого никто не замечает. Моя няня Настя вероломно носит по комнате новую сестру. Я могу есть, не есть, хныкать, играть с ножницами — никто не обращает на меня внимания: я выпала из поля зрения. Только мой отец, которого я по-прежнему редко вижу, ласкает меня неловко и торопливо, проходя в спальню, где всегда плачет маленькая сестра. Он работает в холерных бараках. Мрачное слово «холера» мне не совсем понятно, потому что так называют жену дворника, плоскую, как выпиленную из фанеры, женщину, всегда раздраженную и выкрикивающую грубые слова.
Вскоре я примирилась со своим новым положением. Сначала я вышла за калитку на улицу и, оглянувшись вокруг, быстро вернулась. Никто не заметил этого нарушения. На следующий день я забрела в соседний переулок и познакомилась с целой ватагой ребят, которых до этого времени видела только издали. Они отнеслись ко мне недоверчиво, но кто-то сказал: «Это докторова дочка», и я была принята в компанию. Мои новые друзья были очень самостоятельны, они предпринимали далекие прогулки, и однажды я увязалась за ними.
В тот день моя сестра пищала с утра слабым, скрипучим голосом. Все бегали из комнаты в комнату с озабоченными лицами. Настя помогала мне одеваться, за ней прибежала Лена, и они вышли. Я решила, что надевать платье долго и не обязательно, и, как была — в лифчике, штанишках и сандалиях, выскочила на улицу. Мои товарищи не ждали меня, я была слишком мала, чтобы принимать меня в расчет. Я увидела в конце улицы группу ребят, среди них рыжую голову Гришки — мальчика с соседнего двора, и, проглотив слезы, пустилась во всю прыть догонять. Я бежала, то беззвучно шлепая сандалиями по глубокой горячей пыли, то громко щелкая ими по булыжнику. Я догнала ребят у поворота.
— Куда мы идем? — спросила я, переводя дух.
— На Кудыкину гору, а ты куда?
— А я с вами.
— Тебя разве отпустили?
— Нет.
— А как же ты ушла?
— Я не ушла, я убежала.
— Ну, тогда идем.
Было жаркое августовское утро. В воздухе летали паутинки, залеплявшие лицо. Изредка слышались отдаленный гул и отрывистые, тяжелые уханья, похожие на стоны великана.
— Что это? — спросила я у Гришиной сестры Оксаны, тянувшей меня за руку.
— Стреляют, — коротко ответила она.
И мы побежали дальше.
Вот мы прошли мимо белого кирпичного здания городской тюрьмы.
— Здесь убивцы сидят, — сказала Оксана.
— Какие убивцы?
— А вот какие. — Она схватила меня за шею и больно придавила косточку на горле. — Поняла?
— Поняла, — сказала я, боясь, чтобы она не стала мне еще раз объяснять, что такое убивцы. «Потом спрошу у папы», — подумала я.
Мы спустились к реке, которая в этом месте была узкой и неглубокой, как ручей. Надо было переходить ее вброд. Всем было по пояс, а мне по шею, но я тянулась изо всех сил и только один раз булькнула, потому что оступилась.
На том берегу все немного отдохнули и посушились на солнце. Я была самая мокрая: вода попала мне даже в уши. Тарас, мальчишка с белесыми волосами, лежащими плашмя, как соломенная крыша, сказал, глядя на меня:
— И чего ты увязалась за нами? Бежит и бежит, как тот щенок.
— Чуть не утонула, — добавила Оксана.
— Ничего я не утонула, а просто у меня ноги короткие. У вас вон какие ноги, а у меня вон какие.
— Не ноги, а вся ты короткая. Потому что не выросла еще. Тебе сколько лет? — спросил Гриша.
— Пять.
— Мало, — сказала Оксана, выковыривая из земли камешки и бросая их в воду.
— Ну ладно, мало или не мало, а раз она с нами, глядите за ней. Пошли! — сказал Гришка.
И мы двинулись дальше.
Стало жарко, и моя прохладная одежда приятно прилипала к телу. Зато сандалии сделались тяжелыми и скользкими внутри.
Мы быстро прошли через луг, и я увидела издали какие-то холмы и кучи, ярко освещенные солнцем.
— Что это? — спросила я.
— Кудыкина гора, — ответила Оксана.
Это была городская свалка.
Я до сих пор помню то ощущение восторга, растерянности и счастья, которое охватило меня при виде всех этих сокровищ, лежащих передо мной прямо на земле. Наверное, это же испытывал солдат из андерсеновской сказки, когда открыл заветную дверь, скрывающую несметные богатства. Пронзительно сияли разноцветные стеклышки, блестели крышки от консервных банок, пестрые черепки выглядывали из дымящихся на солнце мусорных куч.
Я стала собирать цветные стеклышки, складывая их в кучу перед собой. Потом я нашла чашку без ручки. На чашке была нарисована яркая роза, через которую проходила черная трещина. Я сложила стеклышки в чашку и немного поспала, улегшись прямо на кучу мусора.