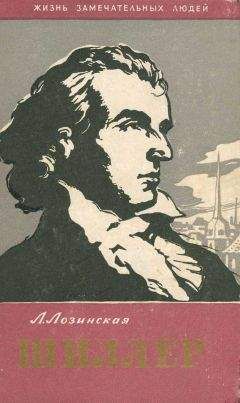Стефан Жеромский
Из дневников
14 октября 1882 г. Сегодня мне исполнилось восемнадцать лет! Восемнадцать лет я прожил на свете, а что хорошего успел сделать? Шиллер на восемнадцатом году жизни создал «Разбойников», а я? Написал ли я что-либо такое, что с полным правом можно было бы назвать литературным произведением? Боже мой, мне восемнадцать лет, – возраст, которому все завидуют, золотая пора, пора юности, смелых мечтаний. Чем же помянуть прошедшие годы? Ах, только бы память не хранила воспоминания о времени, потерянном напрасно, о печальном прошлом! Как же я счастлив среди людей, чьи помыслы не омрачены прозой жизни, чьи сердца так, же как и мое, рвутся к мечте, к счастью!
Сколько пережито за эти восемнадцать лет! Сначала согретое материнской заботой детство, потом – гимназия, смерть матери, знакомство с паном Бемом, увлечение поэзией и литературой, знакомство с Эдеком, Галиком[1] и т. д. Это – прошлое, а какое меня ждет будущее? Какое? Может быть – лавры, а может – одиночество, нищета, близкая могила? Ну что ж! Будь что будет – но с пути, предначертанного мне судьбой, я не сойду никогда.
29 февраля 1883 г. Во время урока французского языка я читал рассказ «Орсо», который понравился мне не так сильно, и «За хлебом».[2]
Я плакал и право не знаю, что со мной творилось! Сколько в нем чувства, поэзии, сколько жизненной правды, простоты, естественности! По-моему, это шедевр!
«За хлебом» – это целая поэма; она меня очаровала! Автор будто бы весело, даже с улыбкой повествует о своих героях, но в словах его чувствуются слезы, сквозит боль… Как же прекрасны нарисованные им сцены, идея и стиль – и все, все восхитительно. Под впечатлением этих произведений я написал третью главу моей «Тоски по родине».[3] Я был тронут и взволнован как никогда.
8 июля 1883 г. Снова сенокос. Я слушаю пенье крестьянок, которые ворошат сено, и начинаю все больше и больше понимать романтизм.
Как же могли не восторгаться романтизмом Берне, Моор, Клопшток, Мицкевич и другие? Ведь это истинная поэзия! Не убранная в изысканные слова Горация и Буало, а чистая, светлая, простая, как муза Карпинского.[4] Удивительно, как рождаются иногда такие складные рифмы в сердце девушки, не знающей даже, что такое буква? Кто их заронил? Это вдохновение! Оно – в песне о возлюбленном Ясе, которая облегчает уставшей крестьянской девушке ее тяжелый труд. Давно, до школы, я часто спрашивал себя, откуда они знают столько стихов? И мне казалось, что эти песни сохранились со времен Яна Кохановского,[5] о котором я тогда уже кое-что слышал. И вот теперь я с волнением слушаю звуки нашей подлинно народной, национальной, романтической музы. Как велики они, эти корифеи романтизма, которые из-под слоя пыли извлекли бриллиант поэзии и удивили мир ее красотой! Да, это народ создал поэзию, а поэты вознесли ее на вершины идеала.
17 июля 1883 г. Читал «93-й год». Гюго и Иокаи[6] – мои любимые романисты. Они рисуют, а вернее, ваяют статуи героев на пьедестале добродетели, знания, самопожертвования, любви к родине и человечеству. Они – глашатаи прогресса. Сегодня днем пани Орлинская предложила мне место репетитора.[7] Итак, снова за работу! Будут присылать за мной лошадей. О вознаграждении еще ничего не знаю. По вечерам я мечтаю о своем «Стегенном»,[8] который один может воплотить мои республиканские идеалы. Скорей бы вернуться в Кельцы.
19 мая 1885 г. Вчера я читал книжку некоего М. Худзяка: «Пребывание их императорских величеств в Привислинском крае».[9] Эх! Попался бы мне в руки этот Худзяк!
Чтобы рассеять ослепившее меня бешенство, я начал читать «Историю преступления» Виктора Гюго. Как ничтожна должна быть страна, если она рождает таких Худзяков. Если бы я знал, что найдется еще сотня людей, осмеливающихся писать по-польски для того, чтобы распространять среди простого народа книги подобного содержания, – право, я бежал бы отсюда. Нет для меня книги более отвратительной. Прочитав ее до последней страницы, я почувствовал страшную тоску. Мысль о том, что это написано по-польски, преследовала меня, как гарпия. Читая Виктора Гюго, я воспрял духом. Худзяк меня истерзал, а он пролил бальзам на мои кровоточащие раны. Заснул я поздно. Я стал таким демократом, что на всех наших товарищеских пирушках провозглашаю только один тост – за демократию. Один Крижкевич поддерживает меня ото всей души. Остальные, хотя и пьют, но лишь для того, чтобы осушить рюмку. Я погряз в болоте утопии, и несмотря на это – иду все дальше в красной шапке на голове! Аристократические суждения приводят меня в ярость. Я сполна, с процентами отвечаю на них злыми насмешками Венгерского.[10] Виктор Гюго, Конопницкая – вот наше знамя: мое, Бернарда, Вацека! Пусть другие идут за Красинским,[11] только подальше от нашего знамени! Янек слишком верит в умственную аристократию. Как знать, не назвал ли бы он вслед за учителем Семирадским человека из народа словом «скот», отлично выражающим аристократические устремления «ясных панов, магнатов, князей-прелатов…»[12]
20 июня 1885 г. До двух часов ночи читал «Мейера Езофовича» Ожешко. Восхитительная эта поэма замечательна еще и тем, что она бесконечно наивна и проста. Она чем-то напоминает песни Гомера. Мы видим почти первобытный еврейский народ, у нас перед глазами – калейдоскоп его наивных верований, и мы как бы присутствуем при том моменте, когда в его недрах начинает зарождаться другое, новое течение, властно захватывающее молодые умы. Как в греческих трагедиях, над судьбой прекрасного героя тяготеет тут неумолимая «мойра», выступающая в образе предрассудков, косных законов и патриархального уклада семьи. Одним словом, я вижу в этом романе великолепный и тенденциозный эпос. Тенденциозность нисколько ему не вредит – она чувствуется только иногда между строк…
Есть там сцены, какие не часто встретишь в иностранной литературе: так, Мейер и Голда в лесу, у окна хаты – это картина изумительно ясной, какой-то первобытной и неизъяснимо красивой любви. И если на первый взгляд роман может показаться скучным, то стоит только вслушаться в разговоры Мейера и Голды, в пение Элиезера, и нам откроется необыкновенно яркая, рукою мастера созданная красота. Простота и наивность, строгий объективизм и благородная тенденция – вот что делает этот роман крупной, прекрасной жемчужиной, которую славяне подарили Западной Европе.