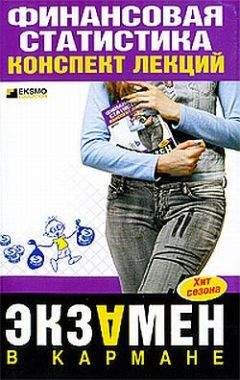Сергей Рафальский
ЧТО БЫЛО И ЧТО НЕ БЫЛО
Вы видите «Дом Мистерий», его фрески, вы ходите по улицам и площадям Помпейским, — но можете ли вы по этим останкам на редкость хорошо сохраненного нам извержением Везувия города воссоздать кипевшую в нем когда-то жизнь? Конечно, нет, — говорит нам автор этой книги. Вы читаете исторические статьи и книги о первых годах революции и советской власти, написанные в СССР и за его рубежами. В этих книгах даты, статистико-экономические выкладки и таблицы, цитаты из тогдашней повременной печати и «голые факты» (как будто бывают «голые факты», не одетые в костюмы, соответствующие взглядам и настроениям автора!)… Но жизнь, живую жизнь не ищите в этих книгах, даже и в том случае, если они написаны и не в СССР, и не «прогрессивными» историками. А статистика — она, помимо всего прочего, может быть прочитана совсем по-разному. Недаром в СССР бытует пословица: есть ложь грубая, есть ложь тонкая, а есть и статистика… Вы, наконец, читаете воспоминания о той эпохе, какую описывает в этой книге ее автор, Сергей Милиевич Рафальский (1895–1981). Мемуары А. Ф. Керенского — и Л. Д. Троцкого, П. Н. Милюкова — и Суханова, ген. А. И. Деникина — и, скажем, графа Игнатьева… Но все эти деятели тех лет, вольно или невольно, сознательно или бессознательно, но стремятся в первую очередь оправдаться «перед лицом истории», да при этом еще и мало были причастны к той непосредственной, рядовой, именуемой ими «обывательской», — жизни, какая и есть жизнь народа, жизнь страны, жизнь эпохи. Из книг этих, из этих воспоминаний вы не почувствуете никак того самого существенного, самого главного, что называется, очень неточно, атмосферой эпохи. Вы ее не увидите, а потому — и до конца не поймете.
Но вот воспоминания не вождя, не «деятеля», не партийного вожака, а просто современника той или иной эпохи — они неизмеримо больше дают для понимания самого воздуха времени, «шума времени» (по словам О. Мандельштама), «музыки эпохи» (выражение А. Блока). В них мы чувствуем сам пульс эпохи, саму ее живую жизнь. Видим, как эпоха переживалась ее рядовыми, пусть и не выдающимися дарованиями, современниками. А ведь в этом-то и сама суть жизни, суть истории, ни в какие даты и статистику не укладывающейся, никакими схемами не объясняемой.
Этот-то вот неповторимый воздух эпохи, все пронизывающий — от столиц до «глубинки», и передают нам ярко и выпукло картины, нарисованные умелой рукой С. М. Рафальского.
Многие — и с многообразными оттенками восхищения или отталкивания — рассказывают о первых месяцах (особенно же — первых неделях) Февральской революции. Рассказывают задним числом — и с очень искаженным десятками последующих лет освещением. Отрешиться ведь от оценки, даже в простом описании, — оценки, порожденной опытом последующих трагических лет, почти совершенно невозможно. Но у С. М. Рафальского очень верно, очень ярко дано это почти физическое ощущение не свободы, в западноевропейском ее понимании, а той русской вольной волюшки, слегка — анархической, никак не социально-правовой, какой дышала тогда Россия — от Великого князя Кирилла Владимировича, выведшего матросов с алыми знаменами к Государственной Думе, — до последнего уличного мальчишки-газетчика… Никакие сухие рассуждения о неподготовленности русской интеллигенции к конструктивному государственному строительству не дадут нам лучшего об этом представления, чем небольшие сцены в книге С. М. Рафальского. Возьмем хотя бы рассказ о приведенном в революционную милицию мелком воришке и уговаривающем его, вора, комиссаре из адвокатов, что, мол-де, воровство при старом, ныне павшем царском эксплуататорском режиме — это одно, а воровство при революционном, народном строе — это совсем другое: «две большие разницы», как говорят в Одессе… А обывательская осмысливающая ходовые термины филология: так, монархические зубры осмысливаются иначе: «В чемодане Штюрмера нашли фальшивые зубы — это зубы старого режима»… Ну, чем это не более ярко, чем бытовавшая на городских окраинах и в деревнях начала двадцатых годов осмысливающая перелицовка слова милиционер в лицемера, — без всякого при этом сознательного понимания бессознательного глубокого понимания самой сути советской милиции.
И не столько Петроград «великого-бескровного» Февраля, не столько Киев первых месяцев «пролетарского» Октября и гетманской оперетки, сколько глухой — в 12 верстах от железнодорожной станции — волынский городок в те судьбоносные для мира годы — место пристальных и вдумчивых наблюдений Рафальского. Городок, так часто переходящий от императорской власти к безвластию розовых дней «великой бескровной», чтобы затем смениться новыми волнами наплывающих и уплывающих, часто весьма бесславно, властей: гетман с сокрушительно-пророческой фамилией Скоропадский, чубатые петлюровцы, первые красноармейцы-всявласть-советники, опять петлюровцы с тарасобульбовскими чубами, опять советские грабительские отряды погромщиков, почище петлюровцев (городок-то на две трети еврейский), разузоренные по всем швам своих кавалерийских униформ поляки, немецкие ландштурмовые части, опять советчики, опять немцы — уже Третьего Райха, и снова окончательные большевики… И, часто невзирая на все эти смены, дремуче-старый — по крайней мере, в «те баснословные года», — быт населения… Нововведения, как ни были бы они кровавыми, тогда еще не затрагивали глубинных пластов сознания…
Нужно быть хорошим художником-прозаиком, чтобы написать во весь рост увешенного всеми мыслимыми и немыслимыми видами оружия и награбленных часов — от золотых и до черненых стальных — красноармейца, полубандита из солдат последних призывов войны, а в общем — достаточно добродушного веснущатого парнюгу, уговаривающего автора книги: Да ты нас не боись — мы русские… Вот придут другие… Но попутно снявшего с вешалки зимнюю рясу отца С. М. Рафальского: — Знатная бурка выйдет… Сколько пишущий эти строки встречал на Северном Кавказе в Гражданскую войну таких героев «железного потока» рабоче-крестьянского воинства…
И нужно быть поэтом, чтобы передать все очарование навсегда ушедшей старосветской жизни маленького городка с мирным сосуществованием десяти тысяч евреев и пяти тысяч украинцев и русских, поляков и обрусевших немцев… Дружно соседствующие «космические» (по удачному выражению автора) языческие сельскохозяйственные праздники, плотно соединившиеся с христианскими Святками и Троицами, Николами и Пасхами; засыпанные чуть ли не до крыш одноэтажные домишки под иссиня-черным небом с яркими рождественскими звездами; картежные вакханалии в местном клубе; любительские спектакли с аккомпанементом юных романов… И единственный на всю городскую окраину страж порядка — геркулес-городовой, на всю окраину храпящий от зари и до темноты, а ночами в той же дощатой будке весьма активно донжуанствующий, — не дающий спуску ни одной молоденькой горничной городка…