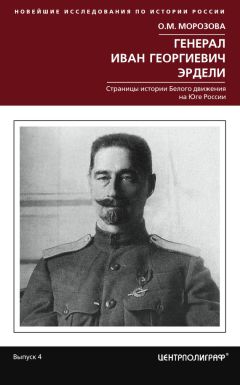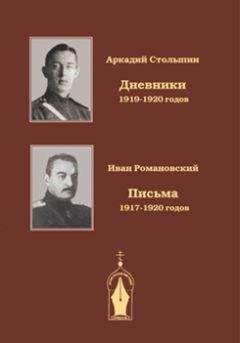Ознакомительная версия.
Детей в этом браке родилось четверо: в 1892 году – Иван-младший; в 1896 году – Мария-младшая; в 1901 году – Георгий; в 1904 году – Александр. В 1919 году Иван Георгиевич уже не был образцовым родителем: на страницах дневника он слишком мало вспоминал о своих детях, что и объяснимо, ведь он был адресован не их матери. Генерал осознавал недостаточность своей отцовской заботы о детях и испытывал вину. Старший сын Иван зимой 1919 года сумел пробраться к нему в Екатеринодар, но его присутствие тяготило отца: лишние глаза и лишние расходы.
Больно читать отзывы об Иване Эрдели-младшем. Т. Л. Сухотина-Толстая записала 28 сентября 1914 года в своем дневнике: «Оба Эрдели – отец и сын – ушли на войну. Ваня-младший был в бою 10 дней. Шинель прострелена». Надежда Вечная описала его как человека немного не в себе, страдающего клептоманией. Психика Ивана действительно была повреждена. Не исключено, что именно участие в войне причиной этому, ведь до войны Иван окончил училище правоведения, потом воевал на фронтах в составе лейб-гвардии 4-го стрелкового полка[66]. В Екатеринодаре он уже молодой человек со странностями. Через пару месяцев праздной жизни сына Эрдели посчитал, что тот достаточно отдохнул и пора идти офицером в строй на фронт. Примерно в феврале 1919 года Иван-младший был определен в полк и пропал. Через пять месяцев объявился, как писал об этом Эрдели, обобранным, даже без зубной щетки (!), с опухшим лицом. Боялся показываться отцу на глаза. Поскольку Иван-младший принадлежал к кругу Л. Н. Толстого, искусствоведами было установлено, что он умер в 1926 году в эмиграции во Франции.
О судьбе других детей генерала известно немногое. Дочь Мария (1896–1961) состояла в первом браке за Петром Лебеденко, во втором – за Федором Ивановичем Крамаревым (1877–1945), из дворян Херсонской губернии, который был значительно старше ее. В 1920-х годах у нее родился сын Дмитрий. Следы младших сыновей Георгия и Александра потерялись из виду основного ствола русской общины за границей.
Впору вспомнить предчувствия графа Льва Николаевича: жаль их, нехорошо. Брак действительно оказался несчастливым.
Ивана Георгиевича Эрдели, полного генерала, что-то мешает считать исключительным офицером. Он кажется воплощением всех типичных черт своего сословия – от тяготящего его семейного союза до убивающего всякую инициативу и индивидуальность корпоративного чувства. Обширный архивный текст его писем-дневников позволит всесторонне познакомиться с личностью его автора.
Потомок «венгерцев» демонстрирует свою великорусскую идентичность. Не к этому ли стремился его отец Георгий Яковлевич, настаивая на столичном воспитании сыновей?
Воюя на юге, Иван Георгиевич тоскует о Средней России, давшей ему сознание русского человека. Маре он пишет:
«Я так привык все относить к России, к центру, а в нем видеть все настоящее, корень всего, что меня туда неудержимо тянет, точно я там вырос, родился. К этому надо прибавить, что ты сама – центророссийская, и, значит, мне этого достаточно, чтобы центр был мне дорог, родной и любим»[67].
Тут он ошибается, полагая, что это сложилось всецело под влиянием личности Мары. Связь с ней только подкрепляет усвоенное в ранней юности отношение его – уроженца жаркого степного юга – к местам, где зародилось Московское государство.
Не великодержавно настроенных образованных людей в Российской империи была горсть. Как правило, уроженцы православных окраин чувствовали себя русскими. Иоанникий Алексеевич Малиновский, ныне почитаемый за основоположника украинской правоведческой мысли, в записках, датированных зимой 1920 года, писал о своем первом посещении Москвы:
«…На меня очень сильное впечатление произвел Московский Кремль. При виде старинных кремлевских стен и ворот с башнями, колокольни Ивана Великого, Успенского собора, при виде Красной площади перед Кремлем с лобным местом и церковью Василия Блаженного… мною овладело какое-то восторженное и вместе с тем жуткое чувство при мысли о том, что здесь колыбель русской государственной мощи»[68].
У Малиновского вызывали восхищение масштабы русской государственности, и все же себя он называл и «украинцем по происхождению», хотя, находясь в Варшаве, считал себя русским[69]. Такие настроения – результат общеимперской образовательной системы, делавшей даже из потомков кокандских ханов и северокавказских эмиров русских офицеров.
Едучи из Баку, Эрдели говорил с «полукондуктором вагона»[70] – Фионией Степановной Романовой, бабой, уроженкой Перми. И его потянуло к северу, снегам, грибам, речкам, заливным лугам, и он почувствовал, как же ему «опостылел юг этот разноплеменный»[71]. Тут все значимо и символично. Взять описания весны. Уроженцами центра южная весна, хотя и ранняя, ощущается чужой. Один из участников 1-го Кубанского похода молодой офицер А. Моллер, находясь в станице Успенской, записал в свой дневник:
«Сирень вся в бутонах. Яблоки и вишни в цвету. Но все же весна здесь не хороша. Нет душистого воздуха, нет того очарования, что у нас. Например, как бы сразу лето, причем днем жарко, а ночью морозы» (12.04.1918)[72].
Так и Эрдели не радует бакинская весна.
Во время поездки в Туркестан его одолевали противоречивые эмоции. Во время езды по Закаспийской линии он испытывал дивное, по его словам, чувство, что все здесь русское, насаждено русскими и нет иной конкуренции, его радовало, что к русским местное население продолжало оставаться приветливым. Но после нескольких встреч со старым товарищем по кадетскому корпусу Сордар-Ураз-Берды, высказывавшим туркофильские идеи, настроение Ивана Георгиевича изменилось:
«Пошел к собору, бывшему военному туркестанских стрелков, осмотрел различные памятники времен Скобелева, Куропаткина. Кругом собора в середине так чисто, хорошо, и грустные мысли навеял мне этот собор. Представилось все покорение Закаспийского края, сколько трудов, денег, культуры, жизней люди вложили. И теперь как все это разрушено… И только вот этот тихий скромный собор, выстроенный насадителями здесь культуры и знаний, безмолвный памятник минувшего. <…> Как-то грустно, ну грустно, грустно на душе становится, чего-то жаль»[73].
Ему на память пришли стихи М. Ю. Лермонтова «Спор» и «Три пальмы». Если причина, по которой ему вспомнился первый стих, рассказывающий о победоносном приходе чужой цивилизации на Восток, ясна, то возникновение ассоциаций со вторым требует разъяснений. Три пальмы в пустыне искушали судьбу и Бога разговорами о том, что они без пользы живут на свете. Пришедшие с караваном люди срубили пальмы и грелись ночью у разведенного костра. Гибель пальм стала концом оазиса: «И ныне все дико и пусто кругом…» В Мерве, недалеко от станции Байрам-Али было царское Мургабское имение. Там кипела жизнь, была сооружена сеть каналов, орошение сделало пустыню зеленой. Эрдели высказывал опасения, что это все погибнет, потому что местным – текинцам-скотоводам – это не нужно.
Русскость Эрдели проявилась и в его сильном религиозном – православном – чувстве. Он страдал, когда у него не было возможности приобщиться к церковным таинствам, «успокоиться молитвой», о чем он писал в дневнике. Когда он оказывался в церкви в чувствах, расстроенных тяжестью исполнения службы, его печалило неподходящее к этому случаю настроение. На Пасхальной неделе он был в церкви и положил на плащаницу букет из цветов груши и яблони.
Описание пасхальной ночи показывает, как для него был важен ритм жизни, задаваемый церковным календарем:
«Вчера мы выступили в 8 ч. вечера, ночь была холодная, ветреная, шли 25 верст до донской станицы Егорлыкской, куда прибыли без четверти двенадцать часов ночи. Подъехали к церкви, и только что там пропели «Христос воскресе». Прямо с лошади ввалились в церковь. Громадная, залита огнями, поют чудесно, голоса чудные. Мара, ты знаешь, когда пропели «Христос воскресе», и я в первый раз это услышал, то меня охватила такая восторженная радость, такое лучезарное счастье, что вот дожил я до этого великого дня, цел и невредим, и удостоился слышать «Христос воскресе». И что сердце мое и душа так радуется этому, и вместе с этим счастьем и радостями весь в слезах я, чуя, что ты и молитва твоя здесь рядом» <…> Что жена и дети мои в эту минуту молятся обо мне, и люди, которые любят, вспоминают меня в эту минуту. Так опять ясно чудилось, что ты в церкви с девочками и молишься, и я вижу тебя внутренним оком и чувствую твою молитву. И вся душа моя несется к тебе навстречу, и твоя ко мне, и мы вместе. И такое неземное счастье и радость охватила меня в церкви, ну правда, я не помню просто, когда мне было так дивно хорошо, умиленно восторженно-прекрасно, как вчера в эту заутреню. Встреча донских казаков благожелательная, приехали домой, хозяйка наша приготовила нам яиц, куличей, поджарила свинины и дала свежего масла и молока – чего же больше, но главное – на душе свет, радость, чистота, любовь и восторг, все вместе, вероятно. То есть и причастие с исповедью, и чудное церковное пение после ночного холода и ночного похода в пыли и по ветру, и несомненное твое присутствие около меня и мое около тебя, – все это подготовило душу и влило в нее неописуемые ощущения светлой лучезарной радости, которые я, стоя в церкви, переживал с тобой, и все время звал тебе по имени про себя, мою дорогую, любимую Мару, Марочку, радость, жемчужинку. <…> Меня знобит всего, трусит, но это все пустяки, наши души в эту ночь соединились, сошлись, [нрзб.] я счастлив, я озарен радостью, озарен любовью и бесконечной милостью господней, который послал мне эту чудную радость в мою печальную тяжелую жизнь»[74].
Ознакомительная версия.