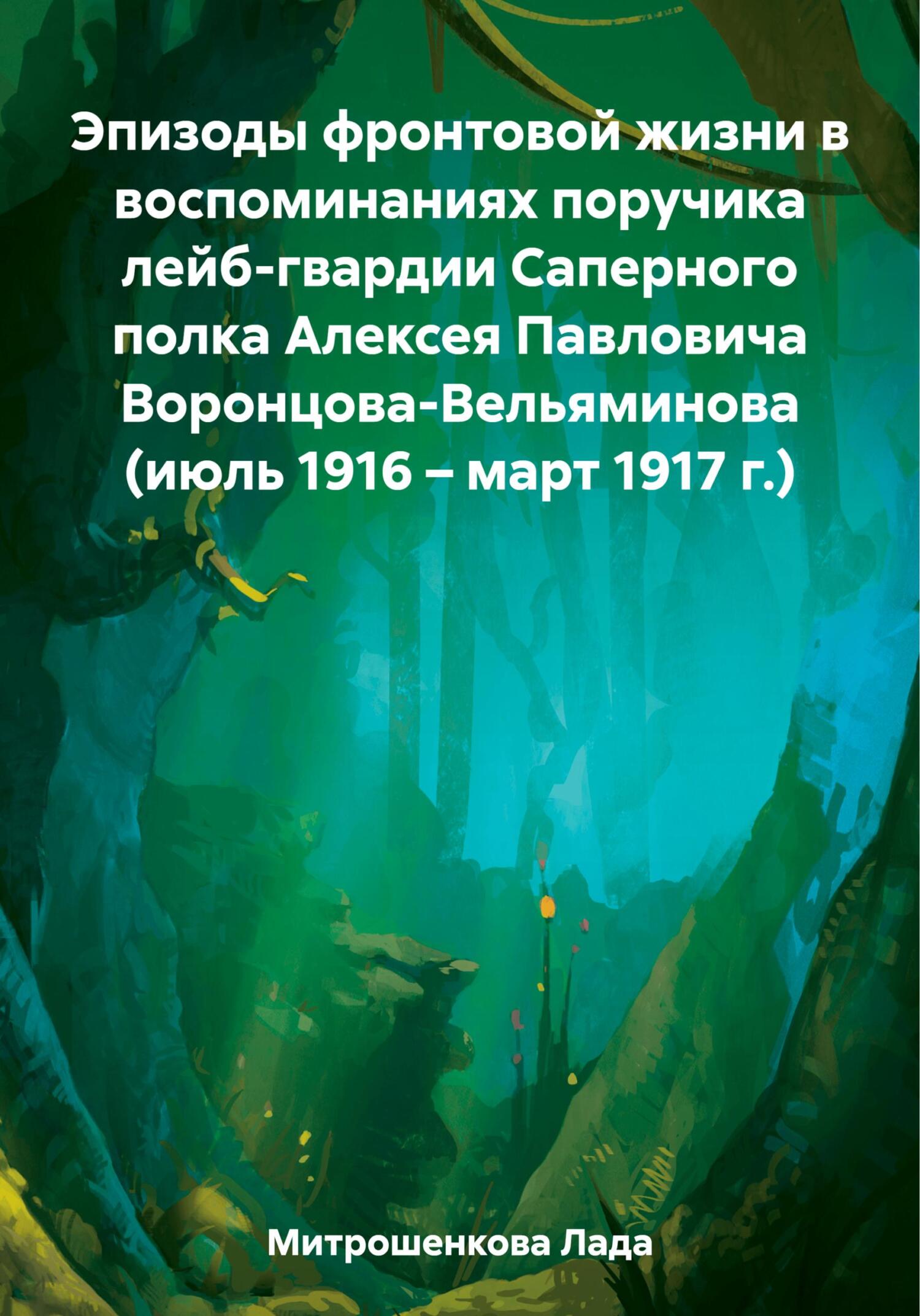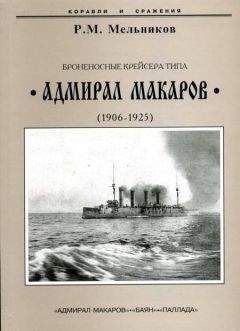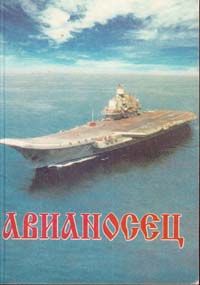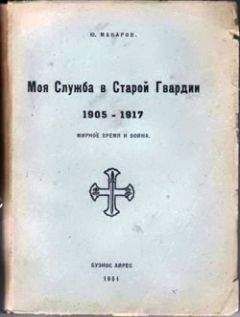«в счет производства», то есть в счет тех 250 рублей, которые казна каждому молодому офицеру выдавала на обмундировку. Большинство таким же образом заказывало себе и шаровары. Они также годились на последующую жизнь, так как снабдить их красным офицерским кантом стоило трешницу.
Немало юнкеров заказывало себе и мундиры, что тоже выходило недорого. Делалось это главным образом потому, что в строгом форменном мундире высота воротника полагалась всего в два пальца, что при не короткой и не толстой шее, нужно признаться, было довольно некрасиво. Кроме того, собственные мундиры на своей же училищной швальне [3]шились, конечно, лучше, строго по мерке, в талию, и разрешалась даже некоторая небольшая подбавка в плечах. Белые замшевые перчатки, которые стоили всего полтора рубля, нужно было иметь свои. Все остальные предметы обмундирования полагалось иметь казенные. Носить свой лакированный наштычник [4]или ножны на тесаке, в противоположность московским училищам, у нас считалось в высшей степени «моветон». Всю остальную собственную одежду нет, но мундиры нужно было показывать ротному командиру, который на воротники несколько выше форменного смотрел обыкновенно сквозь пальцы.
По поступлении в училище я сразу сшил себе сапоги, шаровары и мундир, с воротником чуть не времен Николая I, под самый подбородок, и уже, разумеется, на утверждение начальства его не представлял, держа его для безопасности там, куда ходил в отпуск.
На Рождество 1903–1904 года я поехал к родственникам в Варшаву. Брат тетки Олферьев был там управляющим отделением Государственного банка, а муж старшей сестры служил штаб-офицером для поручений при обер-полицмейстере Лихачеве. В то время красавица Варшава уже 40 лет пользовалась благами мира, и люди в ней жили сытно и весело. Русские и поляки держались особняком, но отношения были если не дружелюбные, то корректные. На Рождество, еще больше, чем всегда, Краковское предместье [5], Новый Свет, Маршалковская – все было залито светом, и зеркальные окна роскошных магазинов соблазняли оживленную, прекрасно одетую, праздничную толпу. Повсюду сновали пароконные извозчики на резиновых шинах, и в воздухе чувствовался не наш, русский, а немножко промозглый холод, с острым запахом каменного угля. Несчастная красавица Варшава! Сколько горя ей потом пришлось пережить!..
Вечера, балы, театры – всего этого в этот мой приезд в Варшаву я попробовал всласть и 6 января вечером с грустным сердцем явился назад в училище. Из осторожности николаевских времен мундир я оставил в Варшаве, наказав сестре выслать его потом на мой отпускной адрес в Петербург. Письма юнкеров, и входящие и исходящие, наше начальство не читало, но приходящие посылки просматривались, так же как и вещи, которые юнкера привозили из отпуска. Когда со своим желтым кожаным чемоданом, который жив у меня и поныне, я вошел в дежурную комнату «являться», там было еще два офицера, мой ротный командир капитан Герцик и сам Мордобой. Я благополучно явился и раскрыл чемодан. Мордобой взглянул поверхностно и вдруг спрашивает: «Ну вот, а собственный мундир у вас есть?» – «Так точно, есть». – «Вы его показывали ротному командиру?» – «Никак нет, не показывал». – «Где же ваш мундир?» – «Я его оставил у сестры в Варшаве». – «Ну вот, и напишите сестре, чтобы она вам его прислала и на училище, поняли?» – «Так точно, понял, господин полковник».
На следующий день пишу сестре: «Милая Ольга, пожалуйста, сделай поскорее то, что я тебя прошу. Тот мундир, который я у тебя оставил, попроси Володю отдать в какую-нибудь полковую швальню, пусть из него там сделают строго форменную одежду. Главное воротник, пусть его понизят до двух пальцев, там уже знают все форменные размеры. Сделай это поскорее, а то мне здорово влетит. Когда будет готово, вышли мундир мне на адрес училища, юнкеру Е. В. роты, Павловское военное училище, Большая Спасская, Санкт-Петербург».
Сестра меня любила, и через неделю я получил открытку: «Не беспокойся, все будет сделано, как ты просил». Еще через две недели вечером сижу в зубрилке и готовлюсь к очередной репетиции по механике. Входит дневальный и передает мне приказание немедленно явиться в дежурную комнату. С неспокойным сердцем, наверное какая-нибудь гадость, иду. Почтительно вхожу и вижу: на столе стоит посылка, а на диване сидит Мордобой и курит папиросу.
«Вам пришла посылка, что это такое?» – «Это мундир, который мне прислали из Варшавы, господин полковник». – «Какой мундир?»
Я напомнил, а затем распаковал посылку и со спокойным торжеством вытянул мундир, который узнать нельзя было. Все было строго по форме, и галун, и воротник, и все прочее. Почтительно, но с видом: «Что, взял, старый черт?» – я разложил его на столе. Мордобой взглянул на мундир, потом посмотрел на меня в упор и выпалил: «Ну вот, и сядьте на трое суток под арест!» Я сел.
Мой первый учебный год в училище ознаменовался началом Японской войны 29 января 1904 года. Событие это училищные порядки никак не затронуло, но в нашу жизнь внесло некоторое оживление. Мы стали читать газеты и на лекциях офицеров Генерального штаба просили рассказывать нам о том, как идут дела. Те охотно делились с нами всем, что знали, причем русские действия не стеснялись критиковать с полной откровенностью. Особенно доставалось наместнику Алексееву и адмиралу Старку, самым позорным образом проворонившим японское нападение на нашу Порт-Артурскую эскадру.
Правда, этот случай нападения без объявления войны был первым в истории цивилизованных народов. Но еще удивительнее, что через 37 лет североамериканские адмиралы, из которых все старшее поколение должно было помнить Порт-Артурское нападение, в Пёрл-Харборе проделали совершенно то же самое.
В начале мая училище по железной дороге перевезли в лагерь. В лагерях в Красном Селе наше место было на самом левом фланге авангардного лагеря, который стоял под прямым углом к главному. Нашими соседями справа был 3-й Гвардейский Финский стрелковый батальон, где все солдаты и офицеры были финны и где все разговоры велись по-фински. По-русски подавались только строевые команды. Царя они величали «высочеством», так как для них он был «великий князь Финляндский». И очень странно было видеть через дорогу русских солдат и слышать, как они между собой разговаривают на чужом и непонятном языке.
В лагерях помещались мы не в палатках, как прочие войска, а в огромных бараках, по бараку на роту, где над каждой кроватью висела скатка с котелком, а в головах стояла винтовка. Никаких лекций и репетиций у нас в лагерях не было, а вся умственная работа ограничивалась полуинструментальной съемкой, работа, о которой военным рассказывать не приходится.
С раннего утра, забравши с собой холодные котлеты с хлебом, на училищном языке «мертвецов», и