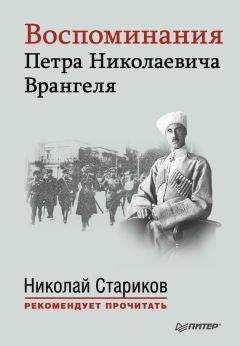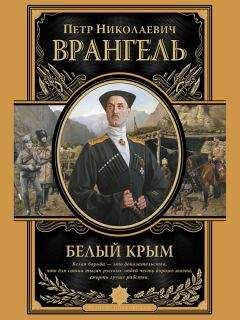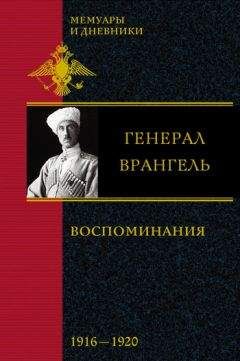Последующие дни подтвердили мою тревогу; все яснее становилось, что смута и развал в тылу растут, что чуждые армии и слабые духом люди, ставшие во главе страны, не сумеют уберечь армию от попыток увлечь ее в водоворот. Появился и приказ № 1.
Как-то рано утром генерал Крымов вызвал меня к телефону, он просил меня немедленно прибыть в Кишинев: «Заберите с собой необходимые вещи, – предупредил он, – я прошу вас сегодня же выехать в Петербург».
Я застал генерала Крымова за письмом. В красных чакчирах, сбросив китель, он сидел за письменным столом, вокруг него на столе, креслах и полу лежал ряд скомканных газет:
– Смотрите, – ткнув пальцем в какую-то газету, заговорил он, – они с ума сошли, там черт знает что делается. Я не узнаю Александра Ивановича (Гучкова), как он допускает этих господ залезать в армию. Я пишу ему. Я не могу выехать сам без вызова и оставить в эту минуту дивизию. Прошу вас поехать и повидать Александра Ивановича…
Он стал читать мне письмо. В горячих, дышащих глубокой болью и негодованием строках, он писал об опасности, которая грозит армии, а с нею и всей России. О том, что армия должна быть вне политики, о том, что те, кто трогают эту армию, творят перед родиной преступление… Среди чтения письма он вдруг, схватив голову обеими руками, разрыдался… Он заканчивал письмо, прося А. И. Гучкова выслушать меня, предупреждая, что все то, что будет сказано мною, он просит считать, как его собственное мнение. В тот же вечер я выехал в Петербург.
На станции Жмеринка мы встретили шедший с севера курьерский поезд. Среди пассажиров оказалось несколько очевидцев последних событий в столице. Между ними начальник 12-й кавалерийской дивизии свиты генерал барон Маннергейм (командовавший впоследствии в Финляндии белыми войсками). От него первого, как очевидца, узнал я подробности столичных народных волнений, измены правительству воинских частей, имевшие место в первые же дни случаи убийства офицеров. Сам барон Маннергейм должен был в течение трех дней скитаться по городу, меняя квартиры. Среди жертв обезумевшей толпы и солдат оказалось несколько знакомых: престарелый граф Штакельберг, бывший командир Кавалергардского полка граф Менгден, лейб-гусар граф Клейнмихель… Последние два были убиты в Луге своими же солдатами запасных частей гвардейской кавалерии.
В Киеве между поездами я поехал навестить семью губернского предводителя Безака. По дороге видел сброшенный толпой с пьедестала, в первые дни после переворота, памятник Столыпину. Безаки оставили обедать. За обедом я познакомился с только что прибывшим из Петербурга членом Думы бароном Штейгером и от него узнал подробности того, что происходило в решительные дни в стенах Таврического дворца. От него впервые услышал я хвалебные отзывы о Керенском. По словам барона Штейгера, это был единственный темпераментный человек в составе правительства, способный владеть толпой. Ему Россия была обязана тем, что кровопролитие первых дней вовремя остановилось.
На станции Бахмач к нам в вагон сел адъютант великого князя Николая Николаевича, полковник граф Менгден. Он оставил в Бахмаче поезд великого князя, направлявшегося из Тифлиса в Могилев, где великий князь должен был принять главное командование. Граф Менгден ехал в Петербург, где у него оставалась семья – жена, дети и брат. Он ничего еще не знал о трагической смерти последнего. Пришлось выполнить тяжелую обязанность сообщить ему об этом. Граф Менгден передал мне, что великий князь уже предупрежден о желании Временного правительства, чтобы он передал главное командование генералу Алексееву и что великий князь решил, избегая лишних осложнений, этому желанию подчиниться. Я считал это решение великого князя роковым. Великий князь был чрезвычайно популярен в армии как среди офицеров, так и среди солдат. С его авторитетом не могли не считаться и все старшие начальники: главнокомандующие фронтов и командующие армиями. Он один еще мог оградить армию от грозившей ей гибели, на открытую с ним борьбу Временное правительство не решилось бы.
В Царском дебаркадер был запружен толпой солдат гвардейских и армейских частей, большинство из них были разукрашены красными бантами. Было много пьяных. Толкаясь, смеясь и громко разговаривая, они, несмотря на протесты поездной прислуги, лезли в вагоны, забив все коридоры и вагон-ресторан, где я в это время пил кофе. Маленький рыжеватый Финляндский драгун с наглым лицом, папироской в зубах и красным бантом на шинели, бесцеремонно сел за соседний столик, занятый сестрой милосердия, и пытался вступить с ней в разговор. Возмущенная его поведением, сестра стала ему выговаривать. В ответ раздалась площадная брань. Я вскочил, схватил негодяя за шиворот, и, протащив к выходу, ударом колена выбросил его в коридор. В толпе солдат загудели, однако никто не решился заступиться за нахала.
Первое, что поразило меня в Петербурге, это огромное количество красных бантов, украшавших почти всех. Они были видны не только на шатающихся по улицам, в расстегнутых шинелях, без оружия, солдатах, студентах, курсистках, шоферах таксомоторов и извозчиках, но и на щеголеватых штатских и значительном числе офицеров. Встречались элегантные кареты собственников с кучерами, разукрашенными красными лентами, владельцами экипажей с приколотыми к шубам красными бантами. Я лично видел несколько старых, заслуженных генералов, которые не побрезговали украсить форменное пальто модным революционным цветом. В числе прочих я встретил одного из лиц свиты государя, тоже украсившего себя красным бантом; вензеля были спороты с погон; я не мог не выразить ему моего недоумения увидеть его в этом виде. Он явно был смущен и пытался отшучиваться: «Что делать, я только одет по форме – это новая форма одежды…» Общей трусостью, малодушием и раболепием перед новыми властителями многие перестарались. Я все эти дни постоянно ходил по городу пешком в генеральской форме с вензелями наследника цесаревича на погонах (и, конечно, без красного банта) и за все это время не имел ни одного столкновения.
Эта трусливость и лакейское раболепие русского общества ярко сказались в первые дни смуты, и не только солдаты, младшие офицеры и мелкие чиновники, но и ближайшие к государю лица и сами члены императорской фамилии были тому примером. С первых же часов опасности государь был оставлен всеми. В ужасные часы, пережитые императрицей и царскими детьми в Царском, никто из близких к царской семье лиц не поспешил к ним на помощь. Великий князь Кирилл Владимирович сам привел в Думу гвардейских моряков и поспешил «явиться» М. В. Родзянко. В ряде газет появились «интервью» великих князей Кирилла Владимировича и Николая Михайловича, где они самым недостойным образом порочили отрекшегося царя. Без возмущения нельзя было читать эти интервью.