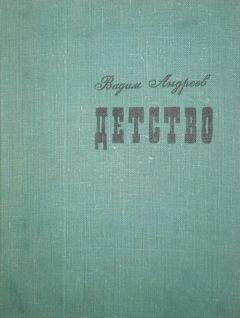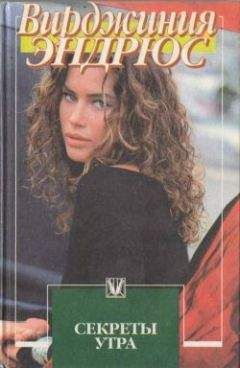Несмотря на июнь, было уже совсем темно, когда Осокин разыскал на восточной окраине Арпажона маленькую маргариновую фабрику, расположенную на берегу извилистой мелкой речонки. Фабрика казалась совершенно покинутой — все было закрыто: окна, покосившиеся ворота, маленькая боковая калитка, заросшая крапивой. Над деревьями из-за туч выползла луна, и весь окружающий мир стал фантастичным. Осокин настолько отвык от деревьев, травы, от чистой линии холмов, сливавшейся вдали с серебряным небом, от необыкновенной тишины, что ему решительно начало казаться, будто он спит и все это ему только снится. На стук в ворота никто не откликался, и Осокин уже собрался уходить, когда протяжно и жалобно заскрипела калитка, и на пороге ее появился старик сторож в накинутом поверх белья черном пальто, — вероятно, он уже лежал в постели, когда стук разбудил его. Осокин путано и неуклюже начал объяснять, что он ищет Самохвалова, что Самохвалов его ждет, что он ему писал, и даже начал рыться в бумажнике в поисках старого, уже истершегося по краям самохваловского письма. Старик перебил его:
— Мсье Жорж уехал в Тур еще вчера утром. Сейчас на фабрике никого нет.
Осокин растерялся; он почему-то меньше всего ожидал, что Самохвалов мог уехать из Арпажона, да еще в Тур. Он уже собрался уйти, когда старик неожиданно предложил ему:
— Если хотите, можете переночевать на фабрике в комнате мсье Жоржа…
Осокин прошел за стариком через мощенный булыжником двор к маленькому двухэтажному дому, стоявшему в глубине.
В комнате Самохвалова, помещавшейся под самой крышей, все было чисто прибрано — видно, Жорж уезжал не спеша. Осокин достал было из вещевого мешка еду, но вдруг почувствовал себя до того усталым, что еле добрел до постели, разделся и немедленно с неизъяснимым наслаждением заснул,
3
Пробуждение было медленным, странным, совсем не похожим на обыкновенное пробуждение Осокина, когда острый звон будильника словно ножом отрезал сонные видения. На этот раз под утро ему снился отец, о котором он давно не вспоминал. Отец умер, когда Осокину было одиннадцать лет. В большой светлой комнате — «но ведь это же столовая, как я мог забыть!» — около окна на столике стояла игрушечная пушка. Отец, в длинном черном сюртуке, в смешной татарской ермолке, совал в дуло пушки большие зеленые горошины, оттягивал прокуренными пальцами тугую пружину, и горошина щелкала по белой двери столовой. На полу, у самого порога, были расставлены оловянные солдатики. Горошины катались по полу, останавливались… «Пора чай пить», — сказал отец, вставая, и Осокин услышал, как забулькал закипающий самовар. Отец взял его за руку, и они подошли к обеденному столу, накрытому бело-зеленой скатертью. Осокин поглядел вверх и увидел, что комната стала дырявой — сквозь потолок проступали ветки деревьев, громко защелкал черный дрозд, вместо стола появилась набитая душистым сеном деревянная телега, но невидимый самовар продолжал по-прежнему ласково булькать.
С трудом Осокин открыл глаза. Сквозь щелку ставен, рассекая комнату наискось, падал яркий солнечный луч. На стуле, похожая на белое привидение, раскинув рукава, лежала рубашка. У окна, на столе, прикрывая груду газет, чернела незнакомая фетровая шляпа. «Нет, я не дома», — подумал Осокин. По-прежнему вдалеке продолжала журчать вода, и Осокин не мог понять, откуда в незнакомую комнату проникает ровный, булькающий звук. «Да ведь я в Арпажоне!» Он встал с кровати, прохладный пол щекотал голые ступни; поджимая пальцы ног, он подошел к окну и распахнул ставни. Солнце ударило в лицо и на несколько мгновений ослепило его. Жмурясь, он подставил голую грудь. Все тело невольно ежилось от свежести, проникавшей в комнату. Когда глаза привыкли к потоку света, свергавшегося с безоблачного неба, Осокин осмотрелся вокруг и увидел: внизу, обмывая серые стены дома, покрытые большими и причудливыми пятнами сырости, протекала маленькая и быстрая речонка. Она вырывалась, журча, из-под каменного низкого свода, суетливо бежала по коричневому илистому дну, кое-где прикрытому зелеными распущенными волосами водорослей, и, круто свернув за выщербленный выступ дома, исчезала в тени тополей, блестевших на солнце зеленым пламенем листвы. На противоположном берегу речонки поднималась каменная ограда с облупившейся штукатуркой. На ее гребне, как игрушечные фонарики, сверкали битые бутылочные стекла. Дальше, по ту сторону стены, был виден зеленый склон холма, полого поднимавшийся к самому небу, и вились еле заметные, местами совсем пропадавшие в траве, темные колеи заброшенной дороги. На самой вершине холма курчавился лесок. «Господи, до чего хорошо», — подумал Осокин, отходя от окна и начиная поспешно одеваться. Он стоял еще около зеркала, без пиджака, с намыленными щеками, когда в дверь постучался вчерашний старик и боком, осторожно, вошел в комнату.
— Вы сегодня дальше едете или еще остаетесь в Арпажоне? — спросил он.
— Сегодня? Да, конечно, если я не могу остаться на фабрике, я поищу комнату в городе.
— Зачем же искать, оставайтесь здесь, если хотите. Я спрашиваю, — потому что все уезжают. Все уезжают, все, — повторил он задумчиво.
— Я завтра еду, — решил Осокин, — Мне нужно велосипед починить, неожиданно для самого себя соврал он, чтобы объяснить старику, почему откладывает отъезд.
— Если вам нужно что-нибудь в городе, я куплю вам, — сказал старик.
После того как Осокин попросил купить для него еды, старик еще некоторое время топтался в комнате, не решаясь заговорить. Неожиданно, уже в дверях, он сказал:
— Вы иностранец. Может быть, у вас есть иностранные почтовые марки. У меня большой альбом… и если у вас…
Старик ужасно смутился и беспомощно замолчал, не кончив фразы.
«Ну и чудак», — подумал Осокин. Порывшись в бумажнике, он нашел старый конверт, на который были наклеены три советские марки, и дал его старику. Решился он на это не сразу: с конвертом было связано воспоминание о полученном от двоюродного брата письме, в котором тот звал его вернуться домой. Правда, хлопоты Осокина оказались бесплодными: в консульстве на его нансеновский паспорт русского эмигранта поставили жирный штемпель «Annule» — «аннулирован», — и этим все кончилось, об Осокине, по-видимому, накрепко забыли… Старик обрадовался конверту до чрезвычайности и, бережно прижимая подарок к груди, скрылся за дверью.
Когда Осокин спустился в сад, расположенный позади фабрики, было уже поздно, шел двенадцатый час. На небе появились редкие белые облака. Иногда пятно тени скользило по холмам, спускалось по склону к реке и на несколько минут приглушало блеск зелени, как будто проводя серой тряпкой по деревьям и высокой траве, уже совсем готовой к сенокосу, и потом исчезало, растаяв в сияющем воздухе. Сад был запущен и показался Осокину прекрасным. Вдоль каменной ограды цвели ползучие белые розы. Они свисали пахучими гроздьями, взбегали по проволоке на гребень стены, переплетались друг с другом, и издали казалось, что вся стена облита молоком. Пробираясь по заросшей травой дорожке, Осокин машинально сорвал серо-зеленый листик неизвестного ему растения и был поражен, когда все — и руки, и воздух, и весь сад — терпко и нежно запахло мятой. В углу сада он нашел большую клумбу настурций, похожую на кусок солнца, упавший на темно-зеленую траву, — настолько было ослепительно ярко-оранжевое круглое пятно. Около огненной клумбы, по краю дорожки, росли еще другие цветы, названия которых Осокин не знал.