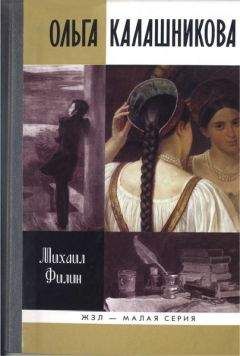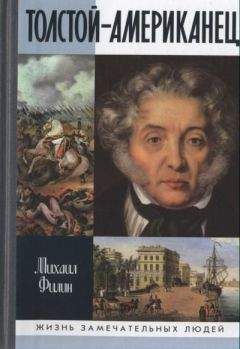То, о чем писал внук, было всего лишь производным от основного, а основным — тем, что принесло массу неприятностей и самой Раевской, и ее близким, — следует считать эгоцентризм, помноженный на непомерную мнительность, проще говоря — гордыню. Внучка гения и жена героя блюла честь фамилии и свою собственную так, что окружающим моментами становилось не по себе от ее высокомерия или кичливой обидчивости. Иногда выходки почтенной Софьи Алексеевны очень походили на поведение избалованного и капризного, привыкшего всеми верховодить ребенка — и супруг, защищая дорогую половину от упреков, непроизвольно подтверждал правомерность такого сравнения: «Не оставьте детей и жены и извиняйте их проступки», — просил Николай Николаевич свою мать, E. Н. Давыдову, в письме, датированном 26 апреля 1807 года[70].
В другом письме, к графу А. Н. Самойлову от 4 декабря 1807 года, Раевский-старший пытался объяснить оскорбленному родственнику мотивы очередного демарша жены: «Ей показалось, что вы, как со мною, так и с ней переменили милостивое ваше обращение, почему и сочла, что ее посещения не будут вам столько приятны, как были прежде. Я никак ее в сем оправдать не могу, — примирительно продолжал Николай Николаевич, — ибо долг ее был удвоить старание приобрести вновь ваше родственное расположение, в чем и — надеюсь на ваше доброе сердце — она успеет»[71]. Однако его надежды не оправдались — и жалобы графа на поведение Софьи Алексеевны продолжились[72].
Надо отдать ей должное: в своих поступках и проступках Раевская была тверда и последовательна невзирая на лица. Так, породнившись со знатными Волконскими, она и с ними не церемонилась, держала себя столь же вызывающе заносчиво. В 1829 году, возмущаясь родней, которая, по мнению Софьи Алексеевны, была скупа, мать писала Марии в Сибирь:
«Твои письма, совершенная заброшенность В<олконскими> и Реп<ниными>, ваш недостаток в деньгах — доставляли нам бесконечное огорчение. Если бы я имела несчастье иметь сына в Сибири и моя несчастная и неповинная belle-fille[73] последовала бы за ним — я продала бы последнее платье, чтобы послать ей денег. Ты делаешь очень хорошо, предлагая браслет своей племяннице Репниной, будь уверена, что никогда и никто из нашей семьи не пожелает иметь хотя бы одну нитку, принадлежащую твоему мужу»[74].
Мария Волконская, вынужденная к тому же лавировать между Раевскими и родственниками мужа, огорчалась подобными письмами матери и свела переписку с ней до минимума. Однажды княгиня в сердцах даже заметила, что Софья Алексеевна «как будто умерла» для нее[75]. Зато в письме к свекрови А. Н. Волконской от 11 июня 1827 года Мария Николаевна добавила к портрету матери несколько небезынтересных штрихов. При чтении этого письма возникает ощущение, что автор послания скорее солидаризируется с Софьей Алексеевной, нежели обвиняет ее в очередных прегрешениях:
«Я тотчас поняла, о ком идет речь, и удивляюсь сдержанности, которую вы проявили в этом деле, обожаемая матушка <…>. Вы, по-видимому, подозреваете, что упомянутая особа писала ко мне, милая матушка; это подозрение неосновательно; она, может быть, лишена такта, имеет странности или смешные слабости, но она никогда не станет так публично выносить на суд недостатки, которые она — справедливо или нет — видит в других, особенно в людях, так или иначе принадлежащих к вашему дому»[76].
Стоит вдуматься в это замечательное «справедливо или нет» — такие дипломатичные, вскользь брошенные слова, вдобавок адресованные не кому-нибудь, а уязвленной свекрови, могут означать только одно: Мария Волконская в какой-то мере была согласна со своей горделивой матерью.
А у матери, при всей неоднозначности ее натуры, билось в груди доброе сердце — и это прекрасно знала Мария. Спустя годы княгиня с теплотой вспоминала, как Софья Алексеевна в детстве «баловала» ее, и, вспоминая, подчеркивала, что мать «была права»[77]. Немало кошек пробежало между этими двумя неординарными женщинами — и все же Софья Алексеевна навсегда осталась для дочери «дорогой, обожаемой матушкой», «доброй матушкой»[78].
Представляется несомненным, что «ломоносовское» самолюбие и предрасположенность к резким, выходящим за общепринятые этикетные рамки поступкам унаследовали через Софью Алексеевну и ее дети, в особенности Александр и Мария. Но если у сына родовые черты проявились чересчур явно, в гипертрофированной форме, то Мария Николаевна избежала крайностей самодурства, которым прославился Александр Раевский. Сказалось благотворное влияние властного отца — влияние, умерившее материнское воздействие. Именно так — умерившее, но не нейтрализовавшее его полностью. В биографии Раевской-Волконской будет немало эпизодов, когда ее «темперамент возьмет верх над разумом» или когда наша героиня докажет, что никто из «знатных господ» или «земных владетелей» ей не указ. А те, кто окажется рядом с княгиней в Сибири, еще обвинят ее в «надмении»[79] и «гордой самоуверенности»[80].
Однако все это — впереди, хотя и не за горами. Пока же Россия сражается с Наполеоном и побеждает его, строит военные поселения, марширует и пашет землю, втихомолку обзаводится разветвленным подпольем — а она, Мария Раевская, с охотой учится, иногда предается детским забавам, вникает в разговоры знаменитостей, путешествует, впитывает впечатления — и постепенно растет. Анна Керн, познакомившаяся с Раевскими в Киеве в 1817 году, едва заметила тихую девочку и запомнила только то, что Мария была «кроткая брюнетка»[81]. Примерно так же отозвался о нашей героине и другой наблюдатель: «Малоинтересный смуглый подросток»[82]. Подросток, обычно не по годам сдержанный, но подчас напоминающий большинство сверстников: по-детски непосредственный и с соответствующими возрасту интересами — например, приходящий в восторг от занятно покачивающего головой «белого медведя», увиденного в Киеве[83].
А сокровенные природные процессы идут динамично, они набирают силу — и готовят чудесное преображение…
Киевский медведь остается в прошлом. Вчерашняя девочка «из ребенка с неразвитыми формами стала превращаться в стройную красавицу, смуглый цвет лица которой находил оправдание в черных кудрях густых волос и пронизывающих, полных огня, очах»[84]. Один офицер, столкнувшись с Марией на балу, был удивлен ее «поразительным сходством» с братом, Николаем Раевским[85]. Красавицею, правда, Марию считали не все: так, поэт Василий Туманский отметил, что она «дурна собой», однако поспешил добавить: девушка «очень привлекательна остротою разговоров и нежностью обращения»[86]. Сама же Мария находила у себя «живость характера» и «ртуть в венах»[87] (позднее, по ее признанию, утерянные). Кроме того, она самокритично отмечала, что «совсем не любезна от природы»[88].