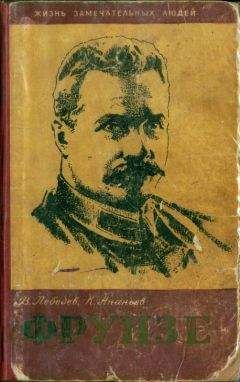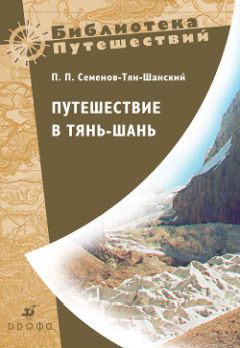Подошли к висевшему на стене списку принятых. Переглянулись: «Ого!»
В списке красовались громкие фамилии:
— «Князь Касаткин-Ростовский»…
— «Барон фон Гильдебрант»…
— «Де Санкти-Мауро-Гаевский»…
— «Князь Черкизов»…
Миша, однако, быстро приметил в институтских коридорах таких же провинциальных пареньков, как и они с Сашей Ромодиным. Им, как видно, тоже было не совсем по себе возле развязных аристократов, но они не слишком робели.
Вот и первая институтская лекция популярного в то время профессора-историка Н. И. Кареева. Седой профессор Кареев, современник Тургенева, Гончарова, Некрасова, закончил свою вступительную лекцию пылкими словами:
— Да здравствуют молодые искатели правды-истины!
Он даже раскраснелся, произнося эти слова, и старческим кулачком стукнул по пюпитру кафедры.
Фрунзе обвел взглядом ряды. «Белоподкладочники» надменно поджимали губы. Среди них слышался неодобрительный шепот. Зато остальные студенты повскакали с мест и бурными аплодисментами проводили маститого профессора-демократа.
Вскоре после лекции к Мише подошел черный высокий студент, уставился на него горячими глазами:
— Понравилось? Крепко в ладоши бил, видал… Будем знакомы — Асатур Арбекян… Искать истину хочешь? А? Записать тебя в кружок?
— В какой кружок? — спросил Фрунзе.
Асатур подмигнул:
— В кружок по изучению «политической экономии»… Ну? Записать?
Миша догадался и с улыбкой кивнул новому знакомому:
— Конечно… Конечно…
Ни удаленность от центра Петербурга, ни толстые стены общежития, ни швейцары в золотых позументах не помогали начальству института в борьбе против революционной «заразы». Тем более что среди самой профессуры Политехнического института имелись также революционно настроенные люди: молодые еще тогда профессора А. А. Байков, М. А. Шателен, М. А. Павлов, ставшие впоследствии выдающимися деятелями советской науки.
Однажды, после обеда в институтской столовой, Асатур Арбекян опять схватил Мишу за плечо:
— Слушай, Фрунзе… Сегодня в восемь, в пятой аудитории кое-что будет… Приходи обязательно…
В восемь вечера пятая аудитория была переполнена. Арбекян взбежал на кафедру и крикнул:
— Ближайшие задачи момента… Докладчик Бергштейн… — и, хитро подмигнув, добавил: — Оратор первый сорт, в-ва…
На трибуну поднялся один из вожаков институтской меньшевистской группировки — студент Бергштейн. Уверенным, почти профессорским тоном он повел свою речь:
— В некоторых кругах пролетариата ощущается тенденция к недооценке силы автократического режима России. Наша обязанность предостеречь пролетариат от чрезмерных иллюзий, внедрить в психику масс идею не только революции, но и эволюции, сделать массы более сговорчивыми в отношении смежных политических партий, контакт с которыми будет неизбежен даже в условиях минимального парламентаризма…
Постепенно смысл речи «первосортного оратора» становился все яснее. Он склонял к отказу от борьбы, к приспособленчеству.
— Довольно! — вдруг неожиданно для самого себя крикнул Михаил. И его выкрик был тотчас же подхвачен.
— Долой меньшевистского болтуна! — поддержал Мишу худощавый студент-туляк Василий Шрамов и сам взбежал на трибуну. Заговорил горячо, гневно:
— Наших товарищей, девушек-курсисток полиция бьет нагайками как раз за то, что порицал предыдущий оратор. Значит ли это, что господин Бергштейн прав? Он пока что не отведал царской нагайки, нам таких учителей не надо!..
— Не надо!.. Правильно!.. — снова подхватила аудитория.
Михаил Фрунзе окунулся в самую гущу событий. Несколько раз выступал на студенческих сходках, активно участвовал в замаскированном «изучением политической экономии» институтском социал-демократическом кружке, понемногу связался и с большевистским подпольем. Сначала ему давали поручения в рабочие кружки на Выборгской стороне, потом он стал самостоятельно вести подобный же кружок рабочих на Обводном канале, близ порта.
Из Верного, от провизора Иосифа Сенчиковского, он привез с собой рекомендательное письмо к известному в то время писателю народнического направления Николаю Федоровичу Анненскому. Долго раздумывал, стоит ли знакомиться с «ненастоящим марксистом». Но все же пошел.
Анненский жил в хорошей квартире, возле Царскосельского вокзала. Принял Мишу радушно, расспросил про город Верный, пригласил бывать по средам у него на собраниях.
— Вы студент? Политехник-экономист? Хорошо… Нужная народу специальность.
Большая квартира Анненского всегда была полна людей. В комнатах густо висел табачный дым, совсем так же, как в Верном у Сенчиковских. Перед Мишей проходили здесь самые разнообразные люди: и адвокаты, и доктора, и студенты, и журналисты, и инженеры. Бывали и рабочие.
Выступления рабочих сильно отличались от выступлений интеллигентов. И те и другие высказывались о революции, но одни словно красивые стихи декламировали, рабочие же говорили на революционные темы просто и скупо, как о насущном, будничном, кровном для них деле.
Анненский был членом редакционной коллегии влиятельного журнала «Русское богатство». Вместе с ним этим журналом руководил Владимир Галактионович Короленко.
Он тоже обратил внимание на симпатичного юношу, приехавшего с далекой окраины России, горячо и возмущенно рассказывавшего о произволе царизма в Семиречье.
Впоследствии, в момент величайшей опасности для жизни Фрунзе, когда он находился под угрозой царской виселицы за революционную деятельность, Короленко вспомнил его и присоединил свой веский голос к общественному протесту против казни молодого студента-революционера.
Около 20 ноября 1904 года на собрании у того же Анненского Михаил Фрунзе увидел и услышал Максима Горького. Горький был тоже еще молод. Волосы у него были длинные, русые, и он пятерней, широким жестом отбрасывал их, когда они ему мешали. Говорил он медленно, глуховатым басом. Все затаив дыхание слушали его, уже на весь мир знаменитого писателя.
— Многие сейчас желают быть сверхгероями, Геракловы подвиги совершать… — говорил Горький, сильно, по-волжски нажимая на «о». — Но победу-то завоюет как раз простой рабочий человек… Надо ему в этом помогать. Надо идти на заводы, на фабрики… Вот это и будет подвиг, не хуже всяких других… А комнатными разговорами победы, конечно, не добиться…
Глубоко запали в сердце Михаилу эти слова, еще больше укрепили в нем революционную решимость.
Вот как Фрунзе описывает свою жизнь тех дней в письме к тому же К. Суконкину, с которым продолжал дружескую переписку: