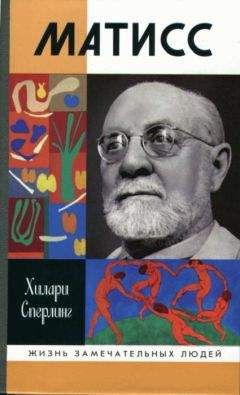Моро был замечательным преподавателем, но твердостью характера не отличался, держать своих учеников в узде не умел, отчего те временами начинали так буйствовать, что студию приходилось закрывать. А через полгода после поступления Матисса в класс Моро во время традиционного студенческого Bal des Quat'z Arts[12] в «Мулен Руж» пришлось даже вызывать полицию. Этот весенний бал оказался для Матисса первым и, судя по всему, последним. Художники в маскарадных костюмах (Анри тоже нарядился — завернулся в простыню, а лицо выкрасил жженой пробкой, изобразив араба) так отплясывали с натурщицами, что те в экстазе сбрасывали и без того немногочисленные предметы туалета, а потом до того разошлись, что разобрали булыжную мостовую и устроили баррикады, которые полицейским пришлось брать штурмом.
В годы учебы Матисс тоже не отличался благовоспитанностью и скромностью. Мог запросто сорвать представление мюзик-холла в Gaîté de Montparnasse или прикинуться мертвецки пьяным, чтобы собрать вокруг себя толпу зевак. Знавшие художника позже не верили, что этот степенный старомодный господин позволял себе когда-либо подобные выходки. «Я… был рожден буйным, никогда не делал ничего до тех пор, пока мне этого не хотелось, отшвыривал и ломал все, в чем больше не нуждался, а постель заправлял только в тот день, когда меняли простыни, и т. д. и т. п.»
В Париже стояли чудовищные холода, когда в канун Нового, 1893 года Матисс поселился на берегу скованной льдом Сены. На пару со скульптором Жоржем Лоржу, научившим его варить клей («Я все еще вижу Лоржу, замешивающего для меня клей») он снял студию на улице Сен-Жак, 350, вблизи бульвара Сен-Мишель. Среди ранних скульптур Матисса уцелела пара терракотовых медальонов с портретами молодой девушки, натурщицы Лоржу. Девятнадцатилетняя Каролина Жобло, которую друзья называли Камиллой, была изящным созданием с длинными черными волосами и огромными темными глазами («У тебя глаза настоящей одалиски», — говорил ей Матисс). Камилла была беспечна, общительна и заражала окружающих бьющей через край жизнерадостностью. Она постоянно хохотала над шутовскими выходками Матисса и до слез смеялась над карикатурами, которые виртуозно рисовал Лоржу. Камилла, Анри и Жорж повсюду появлялись втроем, а если приходил Леон Вассо, учившийся в Сорбонне на медицинском, то вчетвером. В старости Камилла любила рассказывать о веселой богемной молодости, о счастье быть молодой, красивой и о том, как ей нравилось ловить на себе восхищенные взгляды нищих (но уже подающих надежды) художников. Матисс, напротив, старался не вспоминать о том времени и отделывался словами, что, мол, «в двадцать пять не требуется особого воображения, чтобы почувствовать себя влюбленным». Когда Камилла выбрала Матисса, очарованный ею Вассо отнесся к решению подруги философски.
Камилла родилась в апреле 1873 года в провинции Алье, в краю «сонных пастбищ» Центральной Франции. Ее отец, деревенский плотник, умер, когда девочке было семь лет. Сироту взяли на свое попечение монахини и научили шить. Шила Камилла мастерски: у нее были ловкие пальцы и редкое чувство материи, такое же, как и у Анри. Луи Арагон потом напишет, что Матисс «лучше других понимал, как ткань ложится на тело, как полоски материи вписываются в женскую одежду, как они обвивают талию, прилегают к подмышке или подчеркивают изгиб груди: такое обилие секретов невозможно найти ни в одном справочнике». Возможно, он научился этому, живя с Камиллой, которая сама шила себе наряды и мастерила шляпки для себя и подруг, умело соединяя «французский шик» с тем, что одна из моделей Матисса называла «английской элегантностью», то есть умением оставаться стильной, невзирая на суровые условия жизни. Анри и Камилла оба, подобно ткачам Боэна, придерживались той точки зрения, что роскошь — «нечто, не имеющее цены, но при этом доступное всем».
Ткани играли в жизни Матисса важную роль не только благодаря Камилле. Они окружали его с детства, и поэтому он нуждался в них физически. Несмотря на безденежье, Анри начал покупать в лавках старьевщиков у Нотр-Дам ветхие лоскутки старинных вышивок или гобеленов. Он отказывал себе во всем ради будущего «маленького музея текстиля», хотя каждый «экземпляр» обходился ему не дороже нескольких су. Другой его страстью стал Лувр, куда Матисс ходил постоянно — ведь он так много упустил. Он изучал старых мастеров с таким рвением, что даже Моро был поражен. Мэтр питал к своему ученику явную симпатию, и когда тот во второй раз провалил экзамены в Школу изящных искусств, по собственной инициативе написал Ипполиту Анри целое послание. Моро писал о безусловной талантливости его сына, уверяя, что повода для беспокойства нет и Анри непременно себя еще покажет. Пока же порадовать родителей было нечем, не считая новости о перемене места учебы. Анри сообщил, что записался в Школу декоративных искусств, которая гарантирует окончившим диплом учителя, и обучение в Ecole des Arts Décoratifs стоит вдвое дешевле, чем в Ecole des Beaux Arts.
В Школу декоративных искусств шли в основном сыновья рабочих и мелких ремесленников, и классы в ней были переполнены. Матиссу было почти двадцать три, а его соученикам — от четырнадцати до двадцати, да и подготовлены они были гораздо лучше своего великовозрастного однокашника. Анри боялся, что им будут помыкать как мальчишкой, и даже отказался снять шляпу перед приходом в класс преподавателя («Ну уж нет, я сниму ее, только когда здесь больше не будет сквозняков», — с вызовом заявил он), чем произвел настоящую сенсацию. Правда, за подобную дерзость его отстранили от занятий на две недели.
Самым ценным его приобретением в новой школе были друзья — Анри Манген и Альбер Марке[13]. «Марке моей юности… был борцом, надежным и верным соратником», — говорил Матисс, имея в виду предшествующие «великой революции фовистов» времена. Абсолютно то же самое он мог бы сказать и о Мангене, хотя кроме страстного увлечения живописью у его новых друзей не было ничего общего. Манген был красив, стремителен и самоуверен. Стоя у мольберта, он громко насвистывал или напевал что-то из Бетховена, если все шло хорошо, и мрачно дымил сигаретой, когда картина не получалась. Марке, которого из-за маленького роста постоянно дразнили и обижали, был замкнут и застенчив. При этом в многолюдном классе Гюстава Моро в Школе декоративных искусств прихрамывающий коротышка Марке по прозвищу Носатый считался главным шутником.
Матисс сразу почувствовал, что сдержанность Марке, которую плохо знавшие его принимали за холодность, была не более чем защитной реакцией. Анри, бывший пятью годами старше Марке, тут же взял шефство над плохо приспособленным к жизни Альбером. «У него не было друзей. Никого, кроме меня. Я делал то же, что и он. Мы могли жить рядом, не говоря друг другу ни слова». Марке всегда принимал сторону Матисса, поскольку, в отличие от Мангена, любил рисковать и экспериментировать не меньше Анри. Как художников всех их троих сформировал Гюстав Моро, начавший преподавать поздно, после шестидесяти, — свой первый класс в Школе изящных искусств он взял в тот самый год, когда в ней появился Матисс. Моро, понимавший всю пропасть, образовавшуюся между старым и новым искусством, оказался одним из немногих, кто был настроен на живой контакт с молодежью. Молодой Генри Джеймс[14] называл Моро «Густавом Флобером живописи»: «Он наделен богатым воображением, и если его живопись и не отличается особой мощью, то неуловимостью — несомненно». Именно неуловимость, мерцающая фантасмагория живописной вязи, была сутью искусства Моро, всю жизнь старавшегося «выразить невыразимое». «Он не наставлял своих учеников на правильный путь, он уводил их с этого пути, — говорил Матисс. — Он будил в них беспокойство». Дважды в неделю Моро правил работы студентов, а потом вел своих питомцев в Лувр. Особенно он любил старых голландцев и итальянцев — их живопись его особенно вдохновляла. «Он не показывал нам, как писать, — вспоминал Матисс, — он пробуждал наше воображение зрелищем жизни, которое находил в этих картинах».