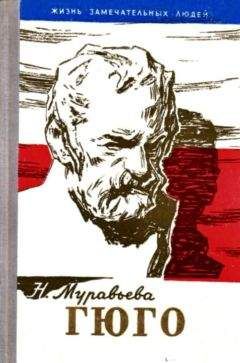— Кажется, интересная заметочка, — обратился к нему пассажир по-французски. — Некрасивый случай для нейтральной страны. Не правда ли?
Молодой человек безнадежно махнул рукой.
— Теперь они ищут третью дочь. В типографии, где я служу, был очень грубый обыск. Хозяин у нас поляк с русской фамилией.
Сосед пассажира говорил по-французски со славянским акцентом и затруднялся в выборе слов.
— Послушайте, сосед, да вы не мой ли соотечественник? Может, вам легче по-русски или по-польски? Прошу пана!
— Родной мой язык — словенский, а жил с детства и во Львове (австрийцы зовут его Лембергом), и в Варшаве. Могу и по-русски, и по-польски, и по-сербски… Мое имя Вольдемар. А фамилия… Бог с ней, все равно забудете, я человек маленький. Как прикажете вас величать?
— Постников, Николай Васильевич. Отставной штаб-ротмистр Новомиргородского уланского полка… Вы, г-н Вольдемар, по делам путешествуете или вроде меня, для поправления здоровья?
— По делам эмигрантским ездил, не по собственным. Дела-то у нас неважные, заказов маловато, а какие заказы есть, так это больше не ради коммерции. Да вам, наверное, про это неинтересно…
— Что вы, г-н Вольдемар, совсем напротив! Я и сам издательским делом занимался. С тех пор, как в отставке… Вы что же, и на русском печатаете?
— И по-русски. В одной Женеве сейчас русских типографий три: я у Антона Даниловича Трусова служу, и еще, бывает, перепадает мне работа в типографии г-на Элпидина, Михаила Константиновича. Журнал они выпускают, «Народное дело», может, слышали?
— А… третья русская типография?
— Та г-на Чернецкого, а вернее сказать, Александр Иванович Герцен ее основатель. Она сперва в Лондоне была, потом не очень давно ее в Женеву перевели. Дела-то и у них как будто тихие.
— Почему же так? Из Лондона они на всю Россию гремели!
— Ныне времена другие. В самой России, как изволите знать, с цензурой полегче стало, реформы идут, земства, суды новые. Гласности больше, пишут открыто и печатают быстро, только успевай читать. Наши отсюда не всегда поспевают, быстрее надо. Возможно, типографию поближе к России пододвинуть полезно. Отсюда за всеми новшествами не поспеешь следить. Так я понимаю. Может, конечно, я маловато осведомлен.
— Почему же, может, вы и правы… Так вы сказали, у вас в типографии обыск недавно был? Или тиснули что недозволенное?
— Кабы хоть тиснули! А то просто так, за здорово живешь! Вломились жандармы, на хозяина нашего, Антона Даниловича Трусова, пистолет навели, прямо в грудь! А меня и печатника — в каморку, под замок! Несколько часов просидели, пока они рылись, полный обыск производили. Нет ли, мол, княжны Кати Оболенской среди станков и касс наших! Смех один! Князь Оболенский полицейским все покрикивал: «Ищите лучше, отсюда, мол, на весь мир самая страшная крамола идет!»
— Нашли они что-нибудь эдакое, опасное? Вроде «Народного дела»?
— Так «Народное дело» не у нас, а у Элпидина печатается, хотя хозяин наш, Трусов, этим делом как раз там и занимается, только на чужих станках, элпидинских… Он там и набором и печатью руководит. Ну а у нас ничего такого, особенного, не нашли, только насорили и перепутали все. Время отняли, заказ один мы теперь к сроку не выполним. Опять же, нашествие получилось вроде татарского, как ни говори, жутковато, и настроение всем испорчено.
— Невероятно! Вот уж никогда бы такого про Швейцарию не мог и подумать! И… полиция швейцарская всему этому помогала? А как давно все это случилось?
— Да на этой неделе! Тех эмигрантов, наших сотрудников, что княгине пробовали помочь, будто под арест брали, теперь выслать грозят.
— Бывало, герценовский «Колокол» про такие дела первым трезвон поднимал. На весь мир крещеный!
— Я к Александру Ивановичу материал и возил, по совету Николая Платоновича Огарева. Герцен сейчас в Париже, ему теперь все подробности известны, материал у него в руках. Он хочет и сам в газеты написать, и другим писателям материал этот передать. Видел я его в Париже второпях. Сказал, давно его, дескать, ничего так не волновало, как произвол над Зоей Сергеевной Оболенской. Пусть-ка, говорит, теперь почитают в Швейцарии «Ла Либерте» и «Сиекль». Передайте, сказал, всем своим, мы, мол, себе и представить не могли, что швейцарская конфедерация, «оплот права и свободы», докатилась до того, что станет филиалом петербургской полиции.[5]
— Скажите, пожалуйста, г-н Вольдемар, кто же из здешних, женевских книготорговцев принимает ваши издания к продаже? Как их за границей распространяют? Я ваши издания везде видел — и в Париже, и в Петербурге — из-под полы, конечно, — и в Венеции даже, в магазине Висконти.
— Этих дел я в точности не знаю, но и Женеве книготорговец г-н Георг нашими изданиями торгует. В его магазине вы всегда любые наши книги и журналы найдете. Наверно, у него договор с Герценом.
Поезд сильно дернуло. Паровоз брал с места крутой подъем. Несколько мгновений, и станционное здание курорта Селиньи поплыло назад.
— Ну, кажется, тронулись, — с облегчением вздохнул Постников. — Шаффнер, почему стояли долго?
— Ночью размыло дождями горный склон, и произошел небольшой оползень. Ничего страшного, господа, опоздание невелико. Через час — Нион, а еще через полчаса за ним — Женева, главный вокзал.
Поезд шел плавно, и от качки утомленный собеседник Постникова задремал. А может, забеспокоился, не слишком ли много сказал постороннему? Забыл, дескать, старинную российскую мудрость; ешь пироги с грибами, а язык держи за зубами. Ничего, пусть не тревожится, не на сплетника напал, а на охотника… Паренек, видно, не совсем глуп, да не больно осведомлен. Жаль, что дремлет, а то надо бы еще и про Тхоржевского… Впрочем, и те издатели-эмигранты, у кого он работает, тоже, верно, имеют отношения с Огаревым и самим Герценом… Что ж, нечего терять и эти золотые полтора часа до Женевы! Их никто не воротит, а использовать можно и сейчас с толком! Говорят, старый друг лучше новых двух. Искандеров друг, Николай Огарев… С некоторых пор близок и к г-ну Бакунину, а возможно, через того и к Нечаеву… Придется, значит, освежить в памяти кое-что и о г-не Огареве…
Глава третья. Московский университет — alma mater Герцена и Огарева
Юность! Ты как восходящее солнце, весь мир обливаешь розовым светом… И пусть юноши будут юношами, пусть отдаются верованиям, пусть рвутся к мировым подвигам, к великому; пусть отдаются дружбе, любви, льют слезы грусти и восторга. Душа, раз отдавшись широкому разливу, не забудет его никогда…
Счастлив тот, кто сохранит юность души в старости, кто не даст душе окаменеть, ожесточиться. Да будет благословенна юность!