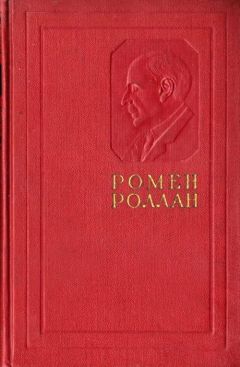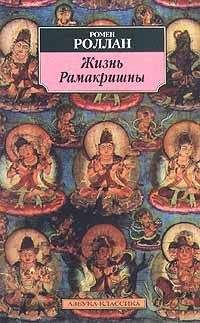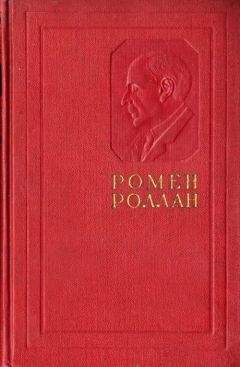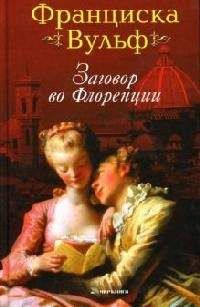А на следующий день все начиналось сызнова. Наконец, папа в сердцах как-то сказал художнику: «Ты дождешься того, что я велю тебя сбросить с твоего помоста». Микеланджело пришлось уступить; он приказал снять леса, и 1 ноября 1512 г., в День всех святых, глазам зрителей предстала его работа.
Торжественный и мрачный праздник, овеянный трауром дня усопших, как нельзя лучше подходил для того, чтобы открыть всем потрясающее по своей мощи произведение, исполненное духом бога-творца и разрушителя – грозного бога, в котором воплощена бушующая, словно ураган, могучая жизненная сила.[109]
Roct'è l'alta cholonna.[110]
Геркулесов подвиг Микеланджело принес ему славу, но надломил его. Расписывая свод капеллы, он много месяцев подряд работал с запрокинутой головой и «так испортил себе зрение, что еще долго спустя мог читать письма или разглядывать предметы, только подняв их над головой».[111]
Он сам подшучивал над своим убожеством:
От напряженья вылез зоб на шее
Моей, как у ломбардских кошек от воды…
………………………………………………
Живот подполз вплотную к подбородку,
Задралась к небу борода. Затылок
Прилип к спине, а на лицо от кисти
За каплей капля краски сверху льются
И в пеструю его палитру превращают.
В живот воткнулись бедра, зад свисает
Между ногами, глаз шагов не видит.
Натянута вся спереди, а сзади
Собралась в складки кожа. От сгибания
Я в лук кривой сирийский обратился.
Мутится, судит криво
Рассудок мой. Еще бы! Можно ль верно
Попасть по цели из ружья кривого?…[112]
Но не следует верить этому шутливому тону. Микеланджело страдал от своего безобразия. Ему, влюбленному, как никто другой, в красоту человеческого тела, всякое уродство должно было казаться постыдным.[113] Некоторые его мадригалы носят след унизительного сознания своих физических недостатков.[114] Ему это было тем горше, что он всю жизнь сгорал от любви, но, видимо, никто никогда не отвечал ему взаимностью. Замкнувшись в себе, он поверял стихам свою боль и свою нежность.
Слагать стихи Микеланджело начал с детства; это было для него непреодолимой потребностью. Его рисунки, письма, наброски испещрены записанными наспех мыслями, к которым он снова и снова возвращается, углубляя их и оттачивая. К сожалению, в 1518 г. он сжег большую часть своих юношеских стихотворений; а некоторые уничтожил незадолго до смерти. Но и то немногое, что сохранилось, все же дает нам представление о его любовных переживаниях.[115]
Самое раннее стихотворение написано, вероятно, около 1504 г. во Флоренции:[116]
Как счастливо я жил, пока дано мне было, Любовь, противостоять твоему безумию! Теперь, познав твою силу, увы, я обливаюсь слезами…[117]
В двух мадригалах, написанных (между 1504 и 1511 гг. и посвященных, как видно, одной и той же женщине, слышится настоящая мука:
Кто тот, что силою ведет меня к тебе, увы, увы, увы, закованного в цепи? А ведь я свободен!
Chi é quel che per forza a te me mena,
Ohime, ohime, ohimeî
Legato e strecto, e son libero e sciolto?[118]
Как может быть, что более себе я не принадлежу? О боже! О боже! О боже!.. Кто отторг от меня мою душу? Кто более властен над нею, чем я сам? О боже! О боже! О боже!
Come puo esser, ch'io non sia piu mio?
О Dio, о Dio, о Dio!
Chi m'ha tolto a me stesso,
Ch'à me fusse piu presso
О più di me potessi, che poss'io?
О Dio, о Dio, о Dio![119]
В Болонье, «а оборотной стороне письма от декабря 1507 г., он набрасывает сонет, принадлежащий к числу его юношеских сонетов и напоминающий изысканной чувственностью образы Ботичелли:
Как счастлив искусно сплетенный из ярких цветов венок на ее златокудрой головке! Цветы теснятся вкруг чела, споря о том, кто первый коснется его поцелуем. Платье, обхватившее стан и ниспадающее до земли свободными складками, счастливо от раннего утра и до поздней ночи. Золотая ткань неустанно ласкает ей щеки и шейку. Но безмерное блаженство выпало ленте с золотою каймой, что опоясывает грудь, нежно ее сжимая. Пояс словно говорит: «Я вечно хочу обнимать тебя!..» Ах, будь это мои руки![120]
В большом стихотворении – своего рода интимной исповеди,[121] которую трудно передать дословно, – Микеланджело в выражениях, до странности откровенных, описывает свое любовное томление:
Когда я не вижу тебя хотя бы день, я не нахожу себе места. Когда тебя вижу, ты для меня, как пища для голодного… Когда ты улыбаешься мне или кланяешься «а улице, я загораюсь, как порох… Когда ты говоришь со мной, я краснею, не могу вымолвить слова, и великое желание мое внезапно гаснет…[122]
В другом стихотворении он горько жалуется:
Ах, какой нестерпимой мукой разрывает мне сердце мысль, что та, которую я безгранично люблю, меня не любит! Как же мне жить?…
…Ahi, che doglia 'nfinita
Sente l mio cor, quando li torna a mente,
Che quella ch'io tant amo amor non sente!
Come restero 'n vita?…[123]
Приведем еще несколько строк, написанных на эскизах к мадонне для капеллы Медичи:
Только я один пылаю во тьме, когда солнце, спрятав свои лучи, покидает нашу планету. Все наслаждаются, а я, в муках распростертый на земле, стенаю и плачу.[124]
В могучих скульптурах и в живописи Микеланджело тема любви отсутствует: в них он выражает лишь самые героические свои мысли. Он словно стыдится дать здесь волю сердечным слабостям. Доверяет он свои тайны одной лишь поэзии. Только в стихах Микеланджело открывает нам муки сердца, пугливого и нежного под суровой оболочкой:
Люблю; зачем я только родился?
Amando, a che son nato?[125]
* * *
Окончив роспись Сикстинской капеллы, Микеланджело возвращается во Флоренцию: Юлий II умер,[126] и ничто больше не удерживает его в Риме. Он может снова приняться за любимое свое творение – гробницу ныне усопшего папы. По договору он обязуется сделать ее за семь лет.[127] На целых три года он весь ушел в эту работу.[128] В эту сравнительно мирную пору своей жизни – пору раздумчиво грустной и ясной зрелости, когда бешеное кипение времен Сикстинской капеллы улеглось словно затихло и вошло в берега разбушевавшееся море, – Микеланджело создает свои самые совершенные творения: «Моисея»[129] и луврских «Рабов».[130] Тут ему в полной мере удалось привести в равновесие свои страсти и волю.