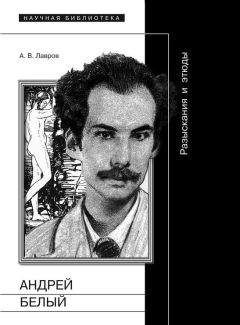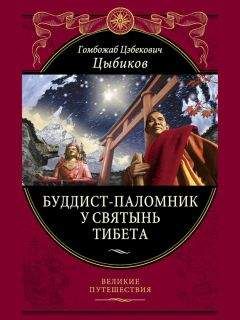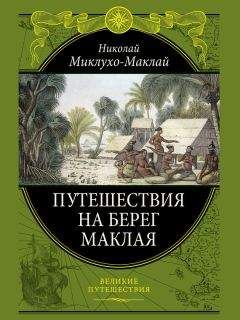Об идейном, творческом и жизненном кризисе, через который прошел Андрей Белый в середине 1900-х гг., писали много и подробно; две основные черты, его определяющие, — трагическое разуверение в действенности и осуществимости теургических устремлений, повлекшее за собой мучительную ломку самосознания и мировосприятия, и заинтересованное обращение к актуальной социально-исторической проблематике, нагляднее всего сказавшееся во второй книге стихов «Пепел». Многократно писалось также, что Белого всколыхнули революционные события 1905 г., стимулировав его поворот к современной жизни и радикализацию общественных взглядов, и сам он не раз указывал на эту связь. Между тем первые симптомы вторжения в художественный мир Белого новых мотивов обозначились еще до начала революционных бурь, в упомянутых выше стихах, объединенных в цикле «Тоска о воле» (Альманах к-ва «Гриф». М., 1905); в них доминирует тема бегства в «пустынное поле» и обретения очистительной свободы — в том числе и свободы от подчинения духовному канону, который не подтвердился в теургическом плане, не воплотился в чаемой «мистерии». Революционные события лишь стимулировали ранее наметившуюся эволюцию, которая, однако, не привела к полному «перерождению убеждений», а лишь изменила акценты во внутреннем мире Белого, сохранив незыблемой его изначальную структуру. Сам он осознавал это, когда писал П. А. Флоренскому (14 августа 1905 г.), что чувствует в себе переход от Андрея Белого к «Андрюхе Красному»: «… я еще раз усумнился во всем, что я считал ценностью, усумнился в искусстве, в символе, в Боге, в Христе, но и: в пренебрежительном отношении к социологии, к тенденции, к террору и т. д. <…> Вопросы о религии стали для меня тошнее касторки», — и в то же время признавался: «Все-таки я думаю, что все осталось по-прежнему, и я — христианин, хотя за эти 2 месяца со мной произошел ряд переворотов. Несомненно, что-то очистилось»[49].
«Андрюха Красный» — аналогия по контрасту с образом автора «Золота в лазури», «опрощенческая» маска создателя стихов на социальные и «простонародные» темы, позднее вошедших в «Пепел» (1909). Многое во второй поэтической книге Белого сочетается с первой, хотя иногда и в другом тематико-стилевом регистре, подобно тому как полушутливый персонаж, походя возникший в письме к Флоренскому (другое его имя в том же письме — Андрюха Краснорубахин), мог восприниматься лишь в соотнесении со своим прототипом — с псевдонимом, указующим на причастность к «белым», благим, религиозно-мистическим началам. Мотивы, повторяющиеся в «золотолазурных» стихах, находят в «Пепле» «низовое» воплощение, десакрализуются, поворачиваются своей изнаночной, негативной стороной. Так, метафорический мотив вина и пиршественного опьянения, реализующий в «Золоте в лазури» тему дионисийского священного экстаза и предстающий одним из знаков вечности, сущности мира: «Точно выплеснут кубок вина, // напоившего вечным эфир» («Вечный зов»); «Опять золотое вино // на склоне небес потухает», «Опять заражаюсь мечтой, // печалью восторженно-пьяной…» («Все тот же раскинулся свод…»); «От воздушного пьянства // онемела земля» («В полях») и т. д., — в «Пепле» обретает грубую материальную плоть в картинах бытового, кабацкого пьянства: «Свирепая, крепкая водка, // Огнем разливайся в груди!» («Бурьян»), «Наливай в стакан мне водки — // Приголубь, сестра!» («В городке»); атрибут преображения мира и высшей жизни перерождается в атрибут смерти, что наглядно продемонстрировано в стихотворении «Веселье на Руси» (начальные его строки: «Как несли за флягой флягу — // Пили огненную влагу», заключительные: «Над страной моей родною // Встала Смерть»)[50]. Иногда темы и сюжетные конструкции, разработанные в первой поэтической книге Белого, возобновляются в «Пепле» в прежнем ироническом ракурсе, но с переключением в другую социально-историческую среду — как, например, коллизия «объяснения в любви» в одноименном стихотворении, рисующем «сомовскую» картинку с влюбленной парой («красавица с мушкой на щечках» и «прекрасный и юный маркиз»: «„Я вас обожаю, кузина! // Извольте цветок сей принять…“ // Смеются под звук клавесина, // и хочет кузину обнять»), повторяется в стихотворении «Поповна» огородной идиллией поповны и семинариста: «Он ей целует губки, // Сжимает ей корсет. // Предавшись сладким мукам // Прохладным вечерком, // В лицо ей дышит луком // И крепким табаком». Иногда, как в стихотворении «Утро», образный строй первой поэтической книги воспроизводится вплоть до обыгрывания ее заглавия: «Внемлите, ловите: воскрес я — глядите: воскрес. // Мой гроб уплывет — золотой в золотые лазури…» — но лишь для того, чтобы завершить поток «золотолазурных» видений всё разъясняющей итоговой строкой: «Поймали, свалили; на лоб положили компресс». Тема сумасшествия несостоявшегося самонадеянного пророка и «спасителя», впрочем, разрабатывалась Белым и раньше — в стихотворении «Безумец», написанном в феврале 1904 г. и вошедшем в «Золото в лазури».
Декларативное посвящение «Пепла» памяти Некрасова не только указывает на осознанную Белым значимость этого великого русского поэта, казалось бы, наиболее чуждого символизму, но и свидетельствует о стремлении последовательно развивать в своем творчестве некрасовские традиции, которые действительно прослеживаются в стихотворениях книги, затрагивающих современную социально-бытовую и национальную проблематику[51]. Многих в свое время сильно озадачила такая переориентация мистика-визионера: «С изумлением и недоверием отнеслись все — и публика и критика — к лозунгу народничества, появившемуся на знамени символистов. <…> Декадентство и социал-демократия <…> Андрей Белый и Некрасов — ведь все это казалось только цепью чудовищных антитез <…>»[52]. Нельзя не отметить, однако, что «народничество» в «Пепле» было весьма специфическое, равно как и освоение некрасовской традиции означало для Белого в значительной мере отталкивание от Некрасова — возвращение с «чужой» творческой территории в свои собственные пределы. Некоторые критики указывали на эту особенность «Пепла»: «В поэзии Некрасова встает действительно Русь „и убогая, и обильная“, встает великий молчальник-народ <…> перед вами — целая галерея типов <…> А что вы найдете в книге Андрея Белого „Пепел“, кроме отчаяния, кроме боязни пространства, кроме сгущения красок, кроме кабаков, бурьяна да тяжелого беспросветного пути?.. Ведь через всю книгу проходит все то же предчувствие „скорого конца“, все та же апокалипсическая тоска»[53]. Иногда Белый повторяет, с более или менее существенными видоизменениями, сюжетные коллизии, заимствованные у Некрасова, но повторяет всегда на свой лад: достаточно сопоставить хотя бы мажорный в целом строй некрасовских «Коробейников» со стихотворениями из раздела «Деревня», эмоционально не созвучными с поэмой Некрасова и развивающими, однако, те же темы (любовное свидание, убийство, наказание), но в однозначно трагической тональности.