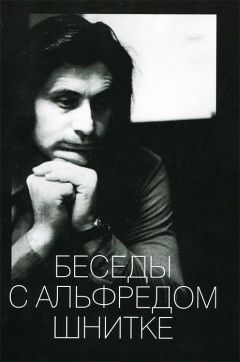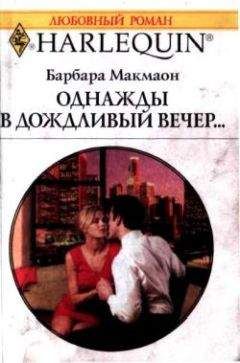Когда Генри начинал говорить, то в первую секунду складывалось впечатление, что ему трудно подбирать слова: он вдруг замолкал в середине фразы, точно выпускающий пары локомотив, затем продолжал уже более уверенно: состав постепенно набирал скорость — невероятно длинный состав, груженный богатым товаром. О чем бы Генри ни говорил, он всегда вдохновлялся собственным голосом — его звучанием, и, опьяненный собственными словами, крепко хватался за них, как паук цепляется за нить, которую сам же и срыгивает.
Вот как Миллер излагает это в «Тропике Рака»:
Я зажимаю между ног бутылку и ввинчиваю в нее штопор. Миссис Рен в предвкушении разинула рот. Вино плещется у меня между ног, солнце плещется о стекла эркера, а в моих венах плещется и пузырится уйма всякой бредятины, и я вот-вот зафонтанирую, как водомет. Я говорю им все, что приходит на ум, все, что когда-то было закупорено внутри и чему несдержанный смех миссис Рен в конце концов дал выход.
Далее идет подробнейшее перечисление всей уймы той самой бредятины, что приходит ему на ум.
Когда Генри в ударе — а иначе я его и не представляю, — он держит аудиторию в напряжении транса. Слушать его — все равно что наблюдать за работой кузнеца, в руках которого бесформенная заготовка на глазах превращается в изящнейшую вещь: Генри брал первый попавшийся аргумент, зажимал его щипцами, точно раскаленный кусок железа, и, поместив на наковальню, всеми силами своего теплотворного естества отчеканивал его, пока не доводил до ума. Затем он рассматривал предмет под иным углом зрения. Теперь он фотограф: вот он отходит на приличное расстояние, доводя фокус объектива до остроты кончика иголки. Сам аргумент давно отошел на второй план — теперь все сосредоточилось на речи, речи яркой, как фейерверк: искры с треском рассыпаются во всех направлениях — то там взовьется пламя, то тут вспыхнет огонь, — ослепляя белокалильным светом. Поди тут разбери, поджигательство это или элементарная пиротехника.
Временами Генри с восторгом принимался развенчивать собственный аргумент, когда тот казался уже идеально отточенным и неопровержимым. Одной короткой фразой он разбивал целые полчища блистательных образов и все начинал сначала, находя мириады новых, антитетических[34] образов, более прекрасных, чудесных и ослепительных, нежели предыдущие. Перенесение акцента на какое-нибудь одно коротенькое словцо вызывало к жизни совершенно новую ситуацию. Едва уловимое изменение порядка слов, беззвучный перевод мысли из одной тональности в другую — и все образы в калейдоскопе выстраивались по иной модели, не менее прекрасной и восхитительной, чем предыдущая.
Было также нечто особенное в его манере сближаться с людьми, независимо от того, мужчина это, женщина или ребенок, — какая-то ласковая прямота, которая избавляла от необходимости в бессмысленных расшаркиваниях и позволяла собеседнику сразу же почувствовать себя в своей тарелке. Его природная жизнерадостность и смешливость располагали к общению. И эта смешливость, не имеющая ничего общего с его чувством юмора, была одной из выдающихся особенностей его натуры. Смех сидел в нем, даже когда он пребывал в плаксивом или сентиментальном расположении духа и превращался в pleurnicheur [35]; смех, можно сказать, был у него всегда наготове, и при необходимости Генри использовал его в терапевтических, гомеопатических и прочих целях, — кстати, весьма успешно.
Кроме разговора по душам, взять с Генри было нечего. От него исходила какая-то животворящая сила: он при любых обстоятельствах умудрялся что-то давать людям, а то, что он был беден как церковная мышь — это уже дело десятое. Расставаясь с Генри как после минутного, так и после продолжительного общения, всегда чувствуешь себя обогащенным, потому что он отдает тебе частицу самого себя. Причем, отдавая себя, сам он тоже обогащался каким-то странным образом: где от него убудет, там тут же и прибудет. При общении с Генри начинаешь смутно осознавать, что, только отдавая, можно рассчитывать обогатиться самому. В результате даже самые замкнутые и прижимистые из тех, с кем он контактировал в те давние дни в Париже, раскрывались в его присутствии — они открывали ему свои души и свои кошельки.
И если я был первым человеком, с которым он познакомился по приезде во Францию, то вскоре я стал одним из многих.
4
Два кафе — «Дом» и «Куполь», объединенные общим фасадом и навевающие воспоминания о довильской{47} potiniere[36]. Разноцветные зонтики и выпивка на любой вкус. Плисовые штаны и пляжные пижамы. Художники в сандалиях и с огромными папками под мышкой. Потасканного вида богемные личности — тощие и голодные как волки, — рыщущие, где бы чего перекусить на дармовщинку. Американские туристы, толпами вываливающие из прогулочных автобусов и, словно неограниченная в правах чума, заполоняющие террасы кафе. Профурсетки в прозрачных цветастых одеяниях, ничего не оставляющих на долю воображения — даже цены за ночь. Официанты с грудами тяжеленных подносов, решительно прокладывающие себе путь в толпе. Североафриканские сиди[37], разгуливающие, под стать штангистам, с рулонами ковров на загривках, с болтающимися на груди ковровыми туфлями, молитвенными ковриками, восковым жемчугом, арахисом и с каким-то отчаянным оптимизмом предлагающие свой товар мрачнеющим интеллектуалам. Сиплые выкрики продавцов газет, возвещающие об очередном международном кризисе. Попрошайки в костюмах акробатов, крутящие сальто вдоль тротуара. Запах кофе, газолина, алкоголя, пота, парфюмерии, амбиций, табака, лошадиных сил, мочи, пустоты, пороха и секса — гремучая смесь, густая, вязкая, существующая как самостоятельный слой атмосферы, тяжелый и плотный, словно какой-то атмосферический пудинг. Таков был Монпарнас в пору его расцвета. Генри всегда можно было найти на одной из террас — либо у кафе «Дом», либо у «Куполи» — в окружении людей, с которыми он только что познакомился или только собирался познакомиться. Непонятно, где он их всех откапывал, как и для чего. Помнится, Джун как-то представила мне исчерпывающее описание одного убогого полуподвального помещения в Гринвич-Виллидже{48}, где обитали они с Генри. Вечное шастанье туда-сюда: одни приходят, другие уходят — как в кафе. Настоящий проходной двор. Но зато какая галерея образов! Большинство из них либо гомосексуалисты, либо извращенцы других ориентаций: несостоявшиеся художники, писатели, поэты, пьянчуга, невротики, маньяки, иностранцы и бездельники. Каждый со своими заморочками. Не важно, кто кого находил: Генри их или они его, они шли к нему, как дикари — к шаману. Это были никчемные, опустошенные души, сдохшие батарейки, требующие подзарядки. Вот Генри их и подзаряжал: он был для них как материнское растение. Никогда не отказывая своим подопечным в еде и вине, он и сам не гнушался принять от них случайную рубашку или пару брюк. Давая, они чувствовали себя не такими несчастными. Что же до Генри, то он никогда не чувствовал себя несчастным, даже при пустом кошельке и пустом желудке. «Всегда веселый и ясный!» {49}— таков был его девиз.