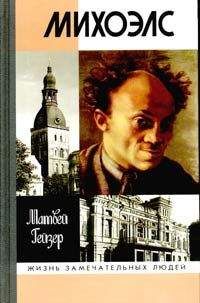Михоэлс принадлежал, быть может, к последнему поколению жителей маленьких еврейских городков и поселений, для которых первым театральным впечатлением были не зрительный зал, занавес и актеры на сцене, а причудливо разодетые и размалеванные на манер ряженых люди, которые ходили по праздникам от дома к дому. «Я застал еще в городе мистерии. Сапожники и хлебопеки надевали бумажные костюмы и колпаки, брали в руки фонарь, деревянные мечи и ходили вечерами по домам, представляя смерть Артаксеркса», — вспоминает в автобиографии Ю. Н. Тынянов, родившийся, как он пишет, «часах в шести от мест рождения Михоэлса и Шагала». В автобиографии самого Михоэлса (написанной в 1928 году) об этом говорится так: «Интерес к театру обнаружил в раннем детстве, неизгладимое впечатление оставили пуримшпилеры, посещавшие наш дом ежегодно во время праздника Пурим… Захватывала театрально-обрядовая сторона еврейских праздников. В раннем детстве видел еще один из спектаклей еврейской труппы Фишзона. Ставили „Колдунью“. Спектакль произвел огромное, неизгладимое впечатление… До пятнадцати лет иных театральных впечатлений не имел».
Позволю себе небольшое «нелирическое» отступление.
Отроческие игры… В одной новелле Борхеса изображен великий ученый Средневековья Аверроэс, где-то в мусульманской Испании наблюдавший за игрой копошащихся в грязи детей. Это пытливое созерцание пересекается с мыслью об Аристотеле, некогда исследовавшем происхождение театра, родившегося, быть может, из подобной игры. Но понять древнего грека средневековый араб не в силах. Все-таки есть прозрачная, но непреодолимая граница между цивилизациями. Идея театра чужда миру классического ислама. Между тем еврейский театр имеет свою давнюю историю. Конечно, ортодоксальным иудеям чужды были и Еврипид, и Аристофан; источником и незыблемой основой еврейской культуры всегда было и осталось Писание. Но еврейские актеры и еврейские зрители не могли не ведать общечеловеческих чувств и страстей. Эти страсти вечны, эти глубокие чувства, в общем, просты. И вновь вспоминаются слова гениального и дерзновенного провидца Фридриха Ницше: «Там, где дионисические силы так неистово вздымаются, как мы это видим теперь в жизни, там уже, наверное, и Аполлон снизошел к нам, скрытый в облаке; и грядущее поколение, конечно, увидит воздействие красоты его во всей его роскоши».
Строгому и рассудительному отцу не по душе были увлечения сыновей «клоунскими штуками». Он приводил слова пророка Иеремии: «Я никогда не сидел в кругу веселящихся людей и не радовался», настойчиво напоминал одну из заповедей, высеченных Моисеем на скрижалях Завета: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». И все же, и все же… В Двинске был профессиональный русский театр, основанный антрепренером Медведевым, и в труппу этого театра поступил — наперекор всем правилам и невзирая на страшный семейный скандал — старший брат Шлиомы — Лев. Отец проклял его и выгнал из дому. Это событие долгое время было главной темой разговоров в семье; родственники шептались друг с другом, осуждали и жалели «грешника». Тем временем в душе младшего сына шла напряженная духовная работа. И вот в день своего рождения, 16 марта 1899 года, Шлиома Вовси пригласил всех родственников и друзей на спектакль «Грехи молодости», где он был и автором пьесы, и режиссером, и единственным исполнителем.
Сам Михоэлс никогда об этом спектакле не вспоминал и не рассказывал, но память о нем сохранили «зрители», которых так поразил в тот вечер девятилетний именинник… В первой сцене герой пьесы был еще мальчиком. Шлиома здесь играл самого себя: детская одежда, широкое лицо с характерным, как бы «перешибленным», носом, высокий крутой лоб. Густые черные волосы, необыкновенной силы печально лучащиеся глаза… Ребенок говорит о том, как прекрасна весна, о том, что на улице солнце, праздник Пурим, что ему хочется быть там, играть в веселые игры, а родители заставляют сидеть дома и изучать Тору. Постепенно впадая в отчаяние, он с яростью разбрасывает лежащие перед ним книги и тетради. В следующей сцене перед зрителями уже юноша — веселый, свободный. На нем длинные брюки и светлая сорочка. Прогуливаясь по улицам, он насвистывает, шутит с воображаемыми друзьями, но радость эта внезапно обрывается строгим зовом родителей, и юноша возвращается домой. Все это Шлиома искусно изображал с помощью жестов, мимики, модуляций голоса, заменяя отсутствующих партнеров. Далее происходят взросление и грехопадение «блудного сына». Вот он в праздничном костюме, в шляпе, с модным зонтом кутит с друзьями; беседы с ними завершаются плясками и пением веселых песен, не похожих на хасидские песнопения… И вдруг — полное перевоплощение: усталый, сгорбившийся «блудный сын» сидит за «столом», шляпа и зонт валяются на полу. Он произносит монолог, полный раскаяния и сожаления, объясняя все свершившееся «грехами молодости». Это была первая актерская и режиссерская удача Соломона Вовси — он заставил зрителей волноваться и переживать, смеяться и утирать слезы, и долго еще сидели они, потрясенные его игрой.
Быстро проходили праздники, еще быстрее пробегали счастливые часы игр на улице. Но, возвращаясь домой, дети продолжали изучать Тору. Отец по-прежнему внушал им мысль Гиллеля-старшего: необходимо изучать все Священное Писание, но помнить следует суть Торы: «Не делай ближнему того, чего себе не желаешь»; все остальное есть лишь толкование этой мысли, и ничему новому не научит даже меламед. Отец следил, чтобы сыновья исправно посещали хедер, который, как уже говорилось, в Двинске отличался от таких же учебных заведений в черте оседлости — здесь изучали русский язык и литературу. Именно в хедере Шлиома впервые услышал и полюбил стихи Пушкина, Лермонтова, Крылова. Он даже читал «Анчара» Пушкина и «Ангела» Лермонтова на вечерах в русской гимназии, гостями которой бывали ученики хедера.
С конца XIX века в Двинске существовал русский театр. Не только местные артисты, но и гастролеры выступали на его сцене. Именно здесь Михоэлс впервые увидел трагедию Шиллера «Мария Стюарт» с Горевой в главной роли и шекспировского «Гамлета» в исполнении известного в ту пору трагика Власова. Забегая вперед, заметим, что в 30-е годы Власов жил в Москве и часто ходил на спектакли ГОСЕТа. Мне рассказывали, что почти после каждой постановки «Короля Лира» он в своем неизменном наряде — черном коротком сюртуке и черном галстуке, вывязанном в виде банта, — являлся за кулисы к Михоэлсу, не скрывая своего возмущения: «Неужели вы не понимаете, что вам нельзя играть Лира?! Ведь Лир — это камея страданий, а у вас — ни камеи, ни страданий. Ваш щупленький, безбородый Лир даже не напоминает могущественного громовержца и великого страдальца. Играйте лучше героев Шолом-Алейхема, а не Шекспира!»