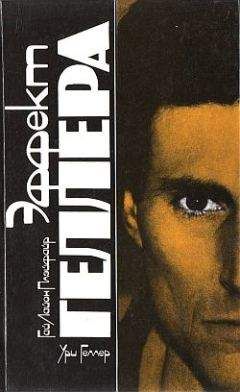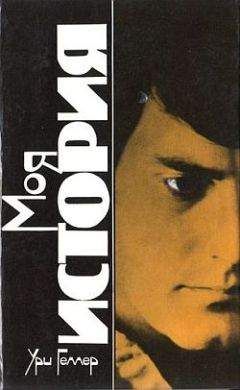Ознакомительная версия.
Дело в том, что местом действия трех первых фильмов фон Триера становится отнюдь не реальная Европа, но воображаемая объединенная Европа будущего. Странные фантазии «Элемента преступления», очень нечетко обозначающие время действия, критики поначалу в один голос называли футурологическими. Стоит обратить внимание хотя бы на то, что главные герои — Фишер, Озборн, Ким и Крамер лишены либо имен, либо фамилий, и определить их национальную принадлежность практически невозможно (забавно, что полноценные и вполне американские имя и фамилия есть лишь у воображаемого маньяка-киллера Гарри Грея). Верный своей схеме «чужак в краю чужом» фон Триер в каждом из трех фильмов создает ситуацию, в которой герой, давно живущий вне Европы, приезжает в нее издалека... и не узнает. Сыщик Фишер из «Элемента преступления» давно обитает в Каире, откуда и отправляется в Европу, доктор Месмер из «Эпидемии» будто заново открывает родной край, выкошенный чумой, а американец Леопольд из «Европы» впервые видит своими глазами страну, откуда исторически происходит и о которой тщетно грезил столько лет.
В каждой из трех картин по-своему разрабатывается образ объединенной, мутировавшей Европы. В «Элементе преступления» это просто земля, «где все изменилось», воплощение неустойчивой коллективной памяти, оставившей неточный отпечаток в сознании главного героя. Безусловно, некоторые образы фильма можно считать символическими картами Европы: архив, большая часть которого утонула в сточных водах и перестала быть различимой глазом, или морг, в котором орудуют замечательные специалисты, лишенные малейшего сочувствия к препарируемому телу убитой маленькой девочки. В «Эпидемии» границы между странами стирает уничтожившая, по всей видимости, большую часть населения континента чума: эта кошмарная абстракция поддерживается «библиотечными» эпизодами, в которых звучит вполне реалистическое описание Великой Чумы, уничтожившей пол-Европы много столетий тому назад. В «Европе» опустошенная Европа переживает послевоенный шок после насильственного гитлеровского объединения и абсолютно не знает, что делать с этим единством: отсутствие нацистского порядка обернулось анархией. В таких обстоятельствах железнодорожные перевозки, которыми занимаются центральные герои картины, превращаются в уникальный способ вновь связать порвавшуюся нить, соединить отдаленные точки единой линией. Но и эта связь — не более чем иллюзия, поскольку ни выйти за пределы поезда на достаточно долгое время, ни сменить обстановку, ни сбежать от преследующих демонов главный герой не в состоянии. В завершающем фильме трилогии особенно очевидна связь мифологии фон Триера с историко-географическиии реалиями и эхом Второй мировой. Три из четырех «европейских» фильмов фон Триера так или иначе развивают тему нацизма и его последствий. В «Картинах освобождения» и «Европе» предлагается послевоенный пейзаж, а в «Эпидемии» о военном времени вспоминает Удо Кир (не говоря об устойчивых — особенно после «Чумы» Камю — ассоциациях эпидемии и нацизма в представлениях европейских интеллектуалов).
Чума, война, опустошение и разброд — вот какой предстает объединенная Европа в изображении фон Триера. Такое впечатление, что, описывая собственную одержимость Европой или приписывая ее персонажам, режиссер избавляется от континента, уничтожает его, стирает с карты, лишает конкретных примет, превращает в условный знак. Снимая трилогию, режиссер двигался назад по вымышленной хронологии. В «Элементе преступления» создается впечатление мира после крушения, катастрофы, в котором больше не имеют значения границы, национальности и языки. В «Эпидемии» рисуется картина этой катастрофы — мора, становящегося причиной гибели всего живого на континенте. Наконец, в «Европе» появляются более-менее конкретные очертания нового мира накануне рождения (то ли чисто скандинавское мифологическое обновление земли после Рагнарека, то ли заря обычного послевоенного строительства) — таким образом, апокалиптическая ситуация «закольцовывается».
Фон Триер использует различные метафоры для обозначения «европейского» пространства. В «Европе» это континент как железнодорожная сеть — будто незащищенной человеческой ноге опасно*ступать на эту землю, и лишь рельсы и поезда могут позволить беспрепятственно передвигаться из одной точки в другую. В «Эпидемии» это континент как братская могила — ведь при предполагаемых горах трупов, мертвых тел на пустошах этой условной Европы практически не видно; подразумевается, что «прах успел стать прахом» и земля потеряла имя, избавившись от населявших ее людей. Наконец, в «Элементе преступления» и отчасти в «Картинах освобождения» возникает образ континента как свалки, своего рода «пикника на обочине». Действительно, ситуация «жизни после конца света» не только отражает современное сознание, но и является крайне удобной для неравнодушного к деталям художника — достаточно вспомнить о принципиально неидентифицируемом пейзаже практически любого фильма Тарковского, в частности «Сталкера», к которому очевидно апеллирует в визуальном ряду «Элемент преступления».
Ситуация свалки позволяет сочетать несочетаемые образы и предметы, не заботясь о вопросах здравого смысла и логики, думая лишь о необходимом эмоциональном эффекте. В «Картинах освобождения» и «Элементе преступления» мы видим именно такую немотивированную свалку (которая в «Эпидемии» и «Европе» объясняется послевоенным или чумным кризисом цивилизации). Как лишенные прямых функций предметы, так и пустоты между ними позволяют создать алогичное и абстрактное пространство, в котором и разворачивается действие. Дисгармонирующие образы — по классическому рецепту «швейной машинки и зонтика на анатомическом столе» — дезориентируют зрителя. Той же цели служит манера раннего Триера избегать общих планов, снимать долгими тревеллингами (т.е. сдвижения),запутывая наблюдателя и не позволяя понять, как выглядит помещение и какой оно величины. Пытаясь найти хоть какую-то систему координат, зритель ищет объяснения увиденным формам, читая их как символы. Здесь его ждет ловушка: однозначное прочтение не предполагается. Отвечая на вопрос о птицах в первых кадрах «Картин освобождения», фон Триер заявил, что очень любит символы, но теряет к ним интерес в тот момент, когда кто-то дает им ту или иную трактовку. Здесь вполне уместно вспомнить о розовом бутоне из «Гражданина Кейна», так и не объясненном образе из шедевра Орсона Уэллса — одного из особо почитаемых фон Триером режиссеров.
Странным образом в «европейской» трилогии упомянутое расширение пространства за счет сокращения общих планов приводит к противоположному результату: создается клаустрофобическое ощущение, столь родственное эстетике Кафки. Ощущение закрытого подвала или котельной-тюрьмы в «Картинах освобождения» усиливается суицидальными эпизодами. В «Элементе преступления» крошечные комнатки гостиниц или маленькие неудобные автомобили исчезают лишь на берегу непреодолимых водоемов — будь то лабиринт подземной канализации или озеро-море. В «Эпидемии», спасаясь от чумы и выживших людей, доктор скрывается в пещере-норе. А сценаристы фильма, въезжая в тоннель, придумывают попутно вставной сюжет с похоронами заживо одной из второстепенных героинь, медсестры — немедленно на экране возникает образ женщины, просыпающейся под землей в заколоченном гробу (на эту роль фон Триер мстительно определил свою нелюбимую жену Сесилию).
Ознакомительная версия.