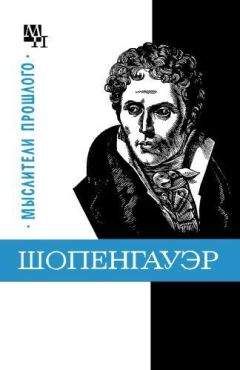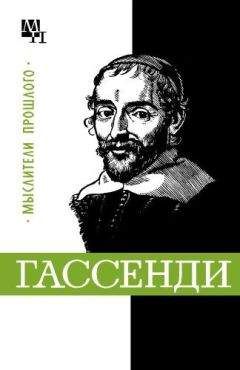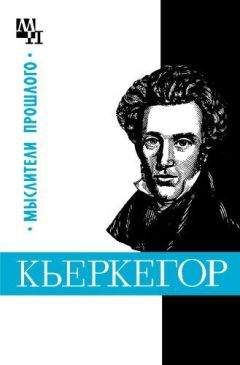Кенигсбергский мудрец пробудил Шопенгауэра, убедил его в том, что «жизнь и сны суть листы одной и той же книги» (6, 17), что во внутреннюю сущность мира нельзя проникнуть через представления и основанное на них научное познание. Но Кант своим агностицизмом блокировал подступы к вещам в себе. Для него понятие ноумена только демаркационное понятие, служащее для ограничения притязаний чувственности, оно имеет лишь негативное, а не позитивное применение. Индийские мудрецы, творцы Упанишад и возвышенный Платон не только закрепили усвоенное Шопенгауэром у Канта убеждение в призрачности теней пещерной тьмы представлений, но и открыли путь к недосягаемому для Канта миру, который следовало искать в другой, совершенно отличной от представлений стороне, к миру, таящемуся за непроницаемым для Канта покрывалом Майи.
Кант пробудил его от сна, Платон и Веданта открыли ему глаза на явь. Таков необычный триумвират философских предшественников Шопенгауэра.
Кантовский агностицизм преграждает путь, ведущий из бренного мира явлений. Автор «Критики чистого разума» предостерегает от злоупотребления разумом, неизбежно влекущим за собой в царство неразрешимых противоречий, в мир безнадежных антиномий. Вся его теория познания отвергает метафизику, неправомерные претензии разума проникнуть за пределы наших представлений.
«Вся совокупность опыта, — по словам Шопенгауэра, — походит на шифрованное письмо» (5, II, 179). Кант доказал это неопровержимо. Но он исключил возможность расшифровать его. Агностицизм — камень преткновения, положенный им между физикой и метафизикой, различие между которыми «опирается на кантовское различие между явлением и вещью в себе» (там же, 169). Кант прав, утверждая наперекор материализму, что каждая настоящая, т. е. действительная, первичная сила природы является по своему существу qualitas occulta (скрытым качеством), не поддающимся физическому объяснению, но он заблуждается, не допуская метафизического объяснения, выходящего за пределы явления.
«Начиная с Левкиппа, Демокрита и Эпикура, продолжая Systeme de la nature („Систему природы“ Гольбаха. — Б. Б.) и вплоть до Ламарка, Кабаниса и вновь подогретого за последние годы материализма, можно проследить не прекращающиеся попытки создать физику без метафизики, т. е. учение, которое из явления делало бы вещь в себе… Они стараются показать, что все феномены, в том числе и духовные, суть физические; это справедливо, но только они не видят, что, с другой стороны, все физическое есть в то же время метафизическое» (5, II, 171).
Физический, материальный мир — мир феноменальный, мир представлений. Он вторичен по отношению к миру вещей в себе, не физическому, не материальному, а метафизическому. «Физика не в силах стоять на собственных ногах и нуждается в опоре метафизики, как она ни важничает перед нею» (5, II, 168).
В расчленении опыта на явление и вещь в себе, в разграничении физики от метафизики Шопенгауэр видит величайшую заслугу Канта. Но Кант не сумел проложить мост, по которому можно было бы выйти за пределы опыта, от физики к метафизике. На первый вопрос, который ставит его философское учение: «Что я могу знать?» — он не дает удовлетворительного ответа, ограничивая познание.
Твердо уверенный в том, что «истинная философия во всяком случае должна быть идеалистической» (5, II, 3), Шопенгауэр высоко оценивает заслугу Канта, который в отличие от Локка совлек с вещи в себе не только вторичные, но и первичные качества. «Вещь в себе обратилась у Канта в нечто беспространственное, непротяженное, бестелесное» (там же, 19). Но Кант не сделал последовательных метафизических выводов из этого, остановившись на полпути, придав вещи в себе чисто негативное значение— значение границы познания, его запретной зоны. Свой «Мир как воля и представление» потому именно Шопенгауэр объявляет наиболее оригинальным и важным шагом в развитии философии, что в этой его работе «совершается, признанный Кантом за невозможный, переход от явления к вещи в себе» (там же, 189). Поэтому, предупреждает Шопенгауэр читателя, «как ни прямо я исхожу из того, что совершил великий Кант, тем не менее именно серьезное изучение его произведений привело меня к открытию в них значительных ошибок, которые я должен был выделить и выставить как подлежащие отрицанию, чтобы затем иметь возможность предпосылать и употреблять все истинное и превосходное в его учении вполне от оных очищенным» (6, XIII).
Вслед за этим предупреждением Шопенгауэр приступает к критике Канта справа, с позиции более последовательного идеализма, притом коренным образом отличного от идеализма классических продолжателей Канта, корифеев немецкой классической философии.
Историческое величие автора «Критики чистого разума» в том, что он воздвиг постамент новой формы рационализма, второй исторической формы диалектики. Утверждение им активной роли субъекта в процессе познания, несмотря на агностические выводы, подвергло критике метафизическую теорию отражения. Трансцендентальная логика с ее четырьмя категориальными триадами проложила путь к преодолению логического формализма. Учение о паралогизмах и антиномиях чистого разума было непосредственным преддверием принципа единства противоположностей — негативной диалектикой. Агностицизм его при всей своей несостоятельности стимулировал осознание продолжателями исторической миссии Канта ограниченности и неудовлетворительности метафизической методологии.
Историческое величие Канта в том, что он был зачинателем классической немецкой философии, восходящими ступенями которой были субъективно-идеалистическая диалектика Фихте, объективно-идеалистическая натурфилософская диалектика Шеллинга и всесторонне разработанная диалектическая логика абсолютного идеализма Гегеля — вершина второй исторической формы диалектического метода. Метафизический рационализм был превзойден диалектическим панлогизмом. Посылки Канта привели к выводам Гегеля.
Для Шопенгауэра, для которого, по его словам, учение Канта в течение десятилетий не переставало быть главным предметом изучения и размышления, для которого «Критика чистого разума» — «наиболее значительная книга, когда-либо написанная в Европе» (4, 112); для Шопенгауэра, объявлявшего себя верным учеником Канта и всячески превозносившего его как мыслителя, «создавшего революцию и мировую эпоху не только в области всяческих философских изысканий, но и в человеческом знании и мышлении вообще» (5, III, 13), в сравнении с которым Лейбниц «до жалости незначительное светило» (там же, 11), — историческое величие Канта состоит отнюдь не в том, о чем мы говорили. Классические преемники и продолжатели дела Канта для Шопенгауэра — предатели и извратители его учения, одержимые «ненавистью к Канту» и тем самым «ненавистью к истине», выбросившие в навозную кучу его трансцендентальную эстетику, «этот алмаз в короне Канта» (там же, 10).