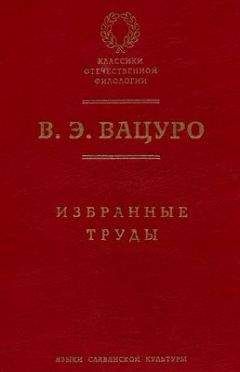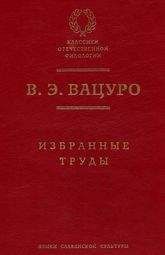1. Закончена ли дума «Владимир Святый»?
Вопрос этот кажется вначале несколько неожиданным, и в науке о Рылееве он не возникал. Дума всегда рассматривалась как завершенный текст, не попавший в прижизненное издание 1825 года предположительно по цензурным причинам. Она сохранилась в единственном автографе — беловом, на который нанесена правка, превратившая его в черновик (рукописный отдел Ленинградского отделения Института истории). Мы знаем, однако, что ее не было в числе дум, запрещенных цензурой к включению в сборник 1825 года; никаких положительных сведений о том, что она вообще подавалась в цензуру, у нас нет. Более того, самое предположение о бесцензурности ее содержания (Владимир изображен в ней язычником и братоубийцей), внешне правдоподобное, вызывает сомнения по существу: именно так Владимир предстает не только в «Истории государства Российского», печатавшейся с «высочайшего разрешения», но и в одновременно появившейся «Русской истории» С. Н. Глинки, проходившей общую цензуру. У Глинки муки совести Владимира после убийства Ярополка превращаются в прямой лейтмотив повествования, приобретающий даже характер аллюзии: «Обагрясь кровию брата своего Ярополка и невольно смущаясь страхом, Владимир, помраченный тьмою невежества, возмечтал, что умилостивлением мнимых своих богов заглушит голос совести, карающий и сильного венценосца!»[86]
Все эти доводы заставляют нас предполагать, что цензура не была причиной того, что дума «Владимир Святый» не появилась в печати. Анализ самого содержания думы и сопоставление ее с источником убеждают в том, что мы имеем дело с незаконченным текстом. История Владимира доведена до эпизода появления «святого» перед преступным князем и до рассказа о страшном суде, побудившего его принять крещение. Далее следует сцена похода Владимира на Корсунь и заключительная сентенция:
Так в князе огнь души надменной,
Остаток мрачного язычества горел:
С рукой царевны несравненной
Он веру самую завоевать летел…
Эти строки прямо опираются на Карамзина: «Гордость могущества и славы не позволяла также Владимиру унизиться, в рассуждении греков, искренним признанием своих языческих заблуждений и смиренно просить крещения: он вздумал, так сказать, завоевать веру христианскую и принять ее святыню рукой победителя»[87]. По рассказу Карамзина, эта попытка была лишь первым этапом на пути к крещению: завоевав Корсунь, Владимир не «завоевал» веру, и лишь приезд царевны Анны, внезапная слепота и последующее исцеление повлекли за собою его «прозрение». Карамзин ссылается на богословов, толкующих «прозрение» в мистико-символическом духе; он приводит и мнение Татищева, согласно которому слепота была послана князю в наказание за сомнение и ослушание[88]. Именно здесь заключалась моралистическая идея посрамления гордыни земного владыки — и есть некоторые основания полагать, что дума писалась отчасти и на эту тему. Во всяком случае, она никак не могла заканчиваться эпизодом похода на Корсунь: такая концовка разрушала бы целостность легенды и вся дума лишалась бы прямого смысла.
Впрочем, уже одно внимательное чтение последнего четверостишия дает возможность уловить в нем ту осуждающую авторскую интонацию, которая совершенно не согласуется ни с названием думы, ни с другими ее местами (описание райского блаженства, ожидающего Владимира-христианина, строки «Крести ж, крести меня, о дивный! В восторге пламенном воскликнул мудрый князь» и т. д.). Можно думать, что Рылеев оставил работу над этой думой, оборвав ее посередине. Чем была вызвана эта остановка — сказать трудно; может быть, причины коренились в самой исходной легенде, которая не давала возможности ни для прямой героизации Владимира, ни для безусловного его осуждения. Она могла быть разработана, скорее всего, в религиозно-моралистическом плане, причем самому Владимиру принадлежала пассивная роль. Его характер терял ту четкость и определенность контуров, которые были необходимы для дидактического рассказа; становилась затруднительной мотивировка перехода от преступника-братоубийцы к святому христианского пантеона. Так это или нет — об этом мы можем только строить предположения; несомненно, однако, что, рассматривая «Владимира Святого» как целостный текст, мы наталкиваемся на непреодолимые затруднения: начатые поэтические темы оказываются оборванными, сюжет — незавершенным, характер героя — неясным, авторские оценки — немотивированными. Между тем как раз эти особенности чрезвычайно характерны для восходящих частей сюжета, построенного на принципе контрастных противопоставлений — который лежит, между прочим, и в основе легенды о крещении Владимира.
2. Неизвестный автограф думы «Видение императрицы Анны»
Это произведение — одна из интереснейших дум Рылеева — было до последнего времени известно в двух автографах: черновом, хранящемся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина, с заглавием «Голова Волынского», затем измененным на «Видение императрицы Анны», и беловом автографе Пушкинского дома, озаглавленном «Голова Волынского». В последнее время Л. Г. Фризману удалось обнаружить третий автограф, беловой, с названием «Видение Анны Иоанновны», хранящийся в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА). По этому автографу, проанализированному Л. Г. Фризманом в специальной статье[89], дума была напечатана им и в издании 1975 года[90]. Таким образом, возник вопрос об источнике текста этой думы. Напомним, что при жизни Рылеева она не была напечатана; «одобренная» в Вольном обществе любителей российской словесности 16 октября 1822 года, она, по-видимому, тогда же встретила противодействие цензуры; вторично Рылеев пытался ее включить в сборник 1825 года, но она снова не была пропущена — вместе с думой «Царевич Алексей Петрович в Рождествене».
Основные отличия автографа ЦГАДА от традиционного источника текста — автографа Пушкинского дома — отсутствие первой строфы и разночтения в стихах 8 («Торжествовали смерть героя» вместо «казнь героя»), 32–33 («И в шуме пиршеств и в глуши» вместо «в тиши») и 67–68, 70–72 последней строфы. Он находится на одном листе с думой «Петр Великий в Острогожске» (стихи 1–28), представленной в Вольное общество любителей российской словесности 16 мая 1823 года. По предположению Л. Г. Фризмана, именно по этому автографу Рылеев имел в виду публиковать думу в сборнике 1825 года, — и потому лист был приобщен к цензурному экземпляру дум, вместе с которым хранится и по сие время.