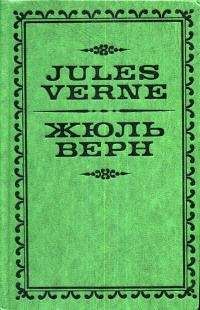Ознакомительная версия.
Матери он гораздо откровеннее пишет о своем разочаровании;
«Увы, дорогая мама, по все в жизни идет гладко, и некоторые люди, строившие себе блестящие воздушные замки, не находят их и на своей родной земле! Значит, брак этот все же состоялся!»
Следует рассказ о «зловещем сне», в котором некая свадьба пышно празднуется в гостиных, роскошно иллюминированных свечами по 35 су за фунт, в то время как «человек с протертыми на локтях рукавами точит свои зубы о дверной молоток». В первый раз появляется у Жюля Верна мысль, неоднократно затем повторявшаяся и поразившая Марселя Море:
«Невеста была в белом, — символ душевной чистоты, жених в черном — символический намек на сущность души его невесты… Двери в брачный покой открылись перед трепещущими молодоженами, и небесное блаженство затопило их сердца… и всю ночь, всю черную ночь какой-то человек с протертыми на локтях рукавами точил свои зубы о дверной молоток. Ах, мама, дорогая, этот ужасный образ внезапно пробудил меня, и вот твое письмо сообщает мне, что мой сон — реальность! Сколько бедствий я теперь предвижу. Бедный молодой человек! Но я все же скажу: прости ему, господи, он не ведает, что творит. Что же до меня, то я утешусь и при первом же удобном случае все это использую в наиболее выгодном для меня свете!… Пусть же на бумаге запечатлеется память об этой погребальной церемонии…»
Сон этот, даже очищенный от литературного колорита, имеет, возможно, некий психоаналитический смысл, но в любом случае он дает понять, что юный студент сохранил горькое воспоминание о Каролине, и не приходится долго недоумевать, откуда у него эта не раз проявлявшаяся тенденция уподоблять свадебную церемонию погребальной!
Более определенно высказывается он в письме к отцу от 21 июля 1848 года:
«…экзаменаторы забавляются, задавая тебе самые неожиданные и трудные вопросы, а затем заявляют: на лекциях я об этом говорил. На что некоторым, вроде меня, нечего возразить. Всякий раз при приближении экзаменов раскаиваешься в том, что не посещал факультетских занятий. То же было в прошлом году. Придется основательно поразмыслить над этим и сделать выводы для будущего учебного года».
Легко представить себе, что последовавшие «основательные размышления» привели Пьера к решению дать третьекурснику возможность обосноваться в Париже.
Как свидетельствует госпожа Аллот де ла Фюи, 10 ноября 1848 года Жюль Верн и Эдуард Бонами сели в дилижанс, отправлявшийся в Тур, а там пересели в поезд, который привез их в Париж, где только что закончились празднества по случаю провозглашения Конституции 4 ноября 1848 года.
Оба друга, из которых один, с разбитым сердцем, старался шутками маскировать свое горе, поселились в комнате, снятой в доме № 24 на улице Ансьен Комеди. Г-жа де ла Фюи жалостливо пишет о скудных средствах этих молодых людей, которым приходится довольствоваться сорока су в день на пропитание. «Тогда, наверно, считали, — пишет она, — что молодых людей, отпущенных на волю, следует содержать впроголодь». Она несколько преувеличивает, приписывая подобные намерения буржуазным родителям 1850 года, которые хотели только, чтобы их сыновья знали цену деньгам. Студенты, обладавшие скромными средствами, пользовались у какой-нибудь хозяйки полным пансионом за шестьдесят франков в месяц и тратили по пять су на первый утренний завтрак. Но нельзя отрицать, что им было очень нелегко жить на сто франков в месяц, и не приходится удивляться, что порой они вынуждены были просить дополнительных жертв от отцовского кошелька. Так, Бонами попросил сверх положенного пять франков на театр, Жюль Верн, у которого к театру была просто неистовая страсть, ограничился тем, что подрядился в клакеры.
Дядя его Шатобур открыл ему доступ в салопы госпожи Жомини, Мариани и Баррер. Это был настоящий подарок для студента-юриста, который намеревался заниматься юриспруденцией лишь для того, чтобы посвятить себя литературе.
Проникнуть в литературный салон — значит иметь возможность общаться с литературным миром, который так манит его. Но тут возникает весьма серьезное препятствие: у обоих друзей одна вечерняя пара на двоих! Что ж! Придется пользоваться ею по очереди.
Жюль Верн посещает литературные салоны. Его писательское призвание. Тревога отца.
Салон госпожи Жомини — политический, и Жюль Верн вскоре перестает его посещать. Что же касается бесед, которые ведутся у госпожи Мариани, они представляются ему мало интересными. Таковы по крайней мере его первые впечатления и несколько поспешное суждение, которое он высказывает в письме домой от 24 декабря 1848 года:
«Чем чаще я бываю в литературных салонах, тем больше убеждаюсь, насколько разнообразен круг людей, с которыми там можно познакомиться. Количество их преизбыточно, и, как бы там ни было, люди эти умеют придавать беседе своеобразный глянец, усиливающий ее блеск, вроде позолоты, придающей предметам из бронзы лоск и делающей их приятными для глаза. Впрочем, и такого рода бронза, и такого рода разговоры ничего не стоят, хотя эти лица, принятые в самом высшем свете, по-видимому, на короткой ноге с наиболее выдающимися людьми нашего времени! С ними за руку здороваются Ламартин, Марраст[18], Наполеон, тут у них госпожа графиня, там госпожа княгиня. Разговор идет о колясках, лошадях, егерях, ливреях, политике, литературе, о людях судят с самых современных позиций, отмеченных, однако же, фальшью».
Эта едкая критика закапчивается столь свойственным молодежи неприятием старшего поколения.
«Я сумел всем понравиться, — уверяет он. — Да и как не находить меня очаровательным, когда в разговоре с глазу на глаз я всегда соглашаюсь со своим собеседником? Я понимаю, что не могу осмелиться иметь собственное мнение, не то все от меня отвернутся.
О, мои двадцать лет! Двадцать лет! Ничего, уж когда-нибудь я им всем отплачу!»
Забавно, что под пером студента 1848 года мы находим выражение тех же чувств, которые в нашу эпоху проявляются куда более бурно. Инакомыслящим этот молодой человек был уже при Луи-Филиппе.
Салон госпожи де Баррер ему более по вкусу. Здесь он сводит знакомство со «всей романтической братией». Хотя многие из людей, сделавших литературную карьеру, представляются ему довольно тусклыми, он доволен тем, что к нему весьма любезно отнесся граф де Кораль, редактор «Либерте», обещавший свести его к Виктору Гюго. Здесь же он имел еще одну встречу, оказавшую на всю его жизнь, быть может, решающее влияние, встречу с Шевалье д'Арпантиньи, увлекающимся хиромантией, к которой страстно привержен Дюма.
Ознакомительная версия.