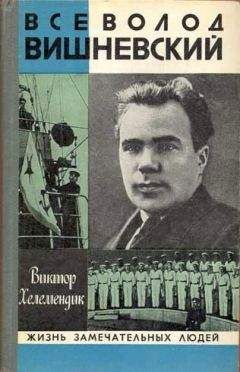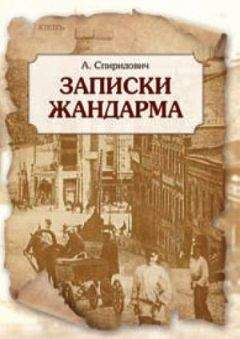А 15 июля гвардейцы бросились в атаку. Всеволод и Емельян Козлов — в первой цепи. Не каждому было суждено преодолеть пятьсот метров, отделявших их от окопов противника. Но поднималась вторая, третья цепи. У проволочных заграждений многие замертво валились на проволоку, образуя мост из трупов. «Когда я начал работать ножницами, — писал позже Козлов, — то вспомнил о Всеволоде, у которого на карабине ножниц не было. Осмотрелся и увидел его на самом левом фланге пробирающимся вместе с другими через отверстие в проволочном заграждении, развороченном в этом месте нашей артиллерией…
Сломив сопротивление передней линии врага, все устремились в глубь вражеского расположения. Мы увидели, как до пятидесяти бросивших оружие немецких солдат один за другим убегали по прорытому ходу сообщения в свой тыл, не желая попасть в плен. Всеволод, я и еще два егеря соскочили в окоп и преградили путь к отступлению. На немецком языке Всеволод приказал им вернуться и сдаться в плен. Видя, что нас мало, немцы стали вооружаться винтовками убитых, валявшимися в окопе. Наша стрельба была, по-видимому, замечена немецким наблюдательным пунктом, и на нас полетели снаряды. Осколком одного из них я был ранен в голову и потерял сознание…»
Сохранилось и свидетельство самого Вишневского об этой атаке — подробные записи им были сделаны во время пребывания в киевском госпитале. Из сопоставления этих документов явствует, что, несмотря на основательную артиллерийскую подготовку, огневые точки противника подавить не удалось и пулеметный огонь косил наступающих беспощадно. К тому же захваченные немецкие окопы тут же подверглись жестокому артиллерийскому удару — егеря вряд ли сумели бы удержать их, если бы противник перешел в контратаку.
По приказу батальонного командира Всеволод должен был конвоировать в штаб полка взятого в плен немецкого офицера. «Я быстро выскочил из окопа, — вспоминает Вишневский, — но офицер в страхе остался там. „За мной!“ — приказываю я, но офицер не откликается. Что-то черное взметнулось перед моими глазами, зазвенело в ушах, стало тяжело дышать. Застрочил немецкий пулемет, заметили мою фигуру над окопом. Я спрыгнул в окоп за офицером, а он лежит убитый… Снаряды с визгом рвались у самого бруствера… Я бросился бегом на передовую. Вдруг что-то оглушительно ухнуло, и четыре столба черного дыма и песка высоко поднялись надо мной. Я упал и потерял сознание…»
Наступила ночь. Бой утих. Спасательная команда обходит позиции, присматривается к разбросанным, полузасыпанным землею человеческим телам. Словно во сне, слышит Всеволод чей-то голос: «Чуешь, так это же наш хлопчик маленький, у, жалко, и его убили, собаки!» И ответ басом: «Не служи, батька, панихиды, вин еще жив. Бери его, понесем в резерв».
В госпиталь ему передали из полка письмо от матери, и он волей-неволей оказался в кругу невеселых, не впервые возникающих раздумий о доме, о взаимоотношениях родителей. После привычных сообщений о высылке ему газет, а также о том, что «Борис пока не попал на войну, может быть, еще попадет», мать обращается к нему за советом: «Волечка, пиши, как мне быть с разводом?.. Папа должен быть к 1-му из Крыма. Я тебе писала, что он хочет жениться на Нине; как твое мнение? Напиши категорически: ведь развод тянется месяцев 8–9… Тяжко мне из-за вас, детей…»
Для матери Всеволод — давно уже взрослый, к тому же и единственный советчик. Что он может ей написать, да еще категорически?
…Первые воспоминания детства связаны у Воли с чудесным катанием на лодке по Ладожскому озеру. На берегу стоял сказочный домик, где они остановились. По утрам с отцом ходили за грибами, а когда возвращались домой, мать накрывала на стол, и Воля, как взрослый, съедал яичницу, выживал большую кружку парного молока. Затем увязывался за отцом, провожал его к близлежащей усадьбе, где тот проводил землеустроительные работы. Отец был оживлен, рассказывал удивительные истории. Само собой, Всеволод их давно позабыл, осталось лишь ощущение, что слушать было очень приятно.
Конечно, Воля не мог знать тогда, что во время частых разлук с семьей письма отца к Анне Александровне буквально проникнуты заботой о нем. «У меня все мысли около Волечки. Мне очень жаль, что он так долго нездоров. Не раздражайся на его капризы и не кричи на него, ведь он маленький, пожалей его…
Посылаю тебе карточку Волечки, не осуди. Я рад и такой и каждый день смотрю на нее. Напиши мне про Волечку подробнее. Я все о нем думаю» (24 июля 1902 года).
Становясь старше, Воля начинал замечать, что родители иногда разговаривают друг с другом зло и сердито. А в тот год, когда он должен был пойти в гимназию, мать взяла с собой Бориса и Георгия (Жоржика, ему исполнилось четыре года) и ушла из дому, сняв квартиру. Почему произошел разрыв? Кто виноват в том, что Воля мог видеться с матерью изредка да и то лишь украдкой? Тогда он еще далек был от знания одной простой истины: никому не дано постигнуть причину разрыва близких людей во всей глубине и достоверности. Тем более что далеко не всегда обстоятельства, разрушившие мир любви, добра, теплоты и взаимного уважения, ясны и им самим.
Со стороны же Виталий Петрович Вишневский и Анна Александровна (урожденная Головачевская) смотрелись довольно-таки подходящей парой. Познакомились они как-то вечером на Невском проспекте. Анна со своей подругой Лелей возвращались из Мариинского театра. Вдруг к ним подошел студент Горного института и бойко заговорил. Его спутник, напротив, был молчалив, но затем и он стал раскованнее и даже пригласил Анну на вечер танцев во Дворянское собрание. После события развивались обычным, не ими проторенным путем: свидания, встречи, а когда после нескольких месяцев разлуки Виталий встретил ее на Лахтинской улице — неожиданно обнял и поцеловал.
Скромный, непьющий молодой человек (тогда ему шел 22-й год) и уже прилично зарабатывающий — около 250 рублей в месяц, — чем не достойная партия для девушки из обедневшей дворянской семьи, занимающейся частной практикой — преподаванием немецкого языка?
Вскоре после свадьбы Виталий уехал по землеустроительным делам в Гродненскую губернию близ Белостока и настоял, чтобы туда приехала и Аня. Относился к ней трогательно и нежно, а когда она возвратилась в Петроград, писал почти каждый день.
В ненастный, дождливый декабрьский день Виталий свез жену в больницу Видемана на Васильевском острове, и там в 6 часов вечера она родила ему сына. Надо же было так случиться, что спустя несколько дней Аня заболела крупозной пневмонией. Виталий поднял на ноги врачей, устроил консилиум, по два раза в день приезжал в больницу. Дела пошли на поправку, но вдруг новая напасть — тромбофлебит, — и снова три недели постельного режима. Новорожденный кричал, плакал, отказался от груди, пришлось перейти на искусственное питание. Правда, быстро привык к новой пище и развивался нормально.