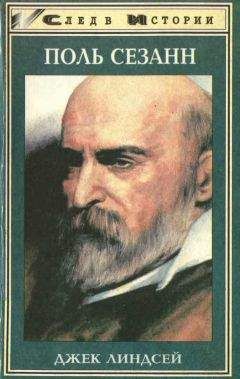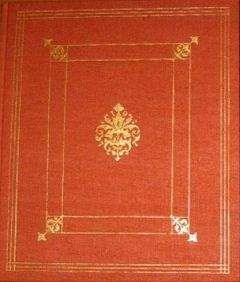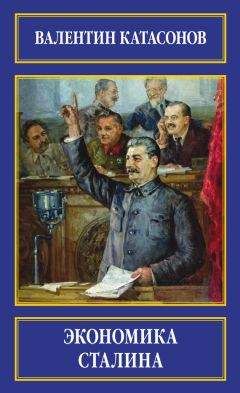Позднее они увлеклись охотой. В том краю дичи мало, и охота носит совсем особый характер; нужно пройти по меньшей мере шесть лье для того, чтобы застрелить полдюжины бекасов; из этих утомительных прогулок они возвращались иногда с пустыми ягдташами или подстреливали, разряжая ружья, неосторожную летучую мышь».
Поль был даже еще меньшим энтузиастом охоты, чем Клод, описанный Золя. Но образы пейзажа укладывались у него в систему, а воспоминания о речных купаниях подвигли его со временем к непрекращавшимся попыткам изображать купальщиков и купальщиц. Ощущение счастья, свободы, чистого, неразъедаемого ничем союза было нераздельно сплавлено с впечатлениями от провансальской природы, с ее светом, красками, теплом, ароматами, с ее цветущим переплетением, ее мощными формами. Живописные или пластические стороны пейзажа были едины с чувством поэтического освобождения и чистых человеческих контактов. Жизнь Поля с определенной точки зрения была долгой борьбой за воплощение этих впечатлений средствами сложно организованной художественной образности, и, когда мы видим всего лишь замкнутую живописную систему и забываем о действенных впечатлениях, лежавших в ее основе, мы в корне искажаем цели художника и его достижения.
«Глаза молодых людей увлажнились при воспоминании об этих походах; перед их мысленным взором вставали бесконечные белые дороги, устланные мягкой пылью, похожей на только что выпавший снег. Они шли дальше и дальше, радуясь всему — даже скрип их грубых башмаков доставлял им наслаждение; с дороги они сворачивали в поля, на красную, насыщенную железом землю тех мест: над ними свинцовое небо, кругом скудная растительность — лишь малорослые оливы да чахлые миндальные деревья. Никакой тени. На обратном пути блаженная усталость, гордая похвальба, что сегодня прошли больше, чем когда-либо прежде. Они буквально не чуяли под собой ног, двигаясь только по инерции, подбадривая себя лихими солдатскими песнями, почти засыпая на ходу.
Уже и тогда Клод вместе с пороховницей и патронами захватывал с собой альбом, в котором он делал наброски, а Сандоз всегда брал с собой томик какого-нибудь поэта. Оба были преисполнены романтикой. Крылатые строфы чередовались с казарменными прибаутками, раскаленный воздух оглашался длинными одами; когда они встречали на пути ручеек, окаймленный ивами, бросавшими слабую тень на иссушенную землю, они делали привал и оставались там до тех пор, пока на небе не высыпали звезды. Там они разыгрывали драмы, которые помнили наизусть; слова героев произносились громко и торжественно, реплики королев и юных девушек — тоненьким голосом, подражавшим пению флейты. В такие дни они забывали об охоте. В глухой провинции среди сонной тупости маленького городка они жили совершенно особняком, с четырнадцати лет предаваясь лихорадочному поклонению литературе и искусству. Первым их вдохновителем был Гюго. Мальчики зачитывались им, декламировали его стихи, любуясь заходом солнца над развалинами. Их пленяли в Гюго патетика, богатое воображение, грандиозные идеи в извечной борьбе антитез. Жизнь представлялась им тогда в искусственном, но великолепном освещении последнего акта драмы. Потом их покорил Мюссе, его страсть, его слезы передавались им, в его поэзии они слышали как бы биение своего собственного сердца; теперь мир предстал им более человечным, пробуждая в них жалость к нескончаемым стонам страдания, которые неслись отовсюду. Со свойственной юношеству неразборчивостью, с необузданной жаждой читать все, что только подвернется под руку, они, захлебываясь, поглощали и отличные, и плохие книги; их жажда восторга была столь велика, что зачастую какое-нибудь мерзкое произведение приводило их в такой же восторг, как и шедевр».
Эта любовь к природе и поэзии, утверждал Золя, спасла их от городского филистерства. В своих заметках он утверждал: «Никаких кафе, никаких женщин, жизнь на свежем воздухе — это спасло их от провинциального ступора (betise)». «Творчество» развивает эту тему: «Теперь Сан доз часто говорил, что именно любовь к природе, длинные прогулки, чтение взахлеб спасли их от растлевающего влияния провинциальной среды. Никогда они не заходили в кафе, улица внушала им отвращение, им казалось, что в городе они зачахли бы, как орлы, посаженные в клетку; в том же возрасте их школьные товарищи пристрастились к посещениям кафе, где угощались и играли в карты за мраморными столиками. Провинциальная жизнь быстро затягивает в свою тину, прививая с детства определенные вкусы и навыки: чтение газет от корки до корки, бесконечные партии в домино, одна и та же неизменная прогулка в определенный час по одной и той же улице. Боязнь постепенного огрубения, притупляющего ум, вызывала отпор «неразлучных», гнала их вон из города; они искали уединения среди холмов, декламируя стихи даже под проливным дождем, не торопясь укрыться от непогоды в ненавистном им городе. Они мечтали поселиться на берегу Вьорны, взяв с собой пять-шесть избранных книг, и жить первобытной жизнью вдосталь наслаждаясь купанием. Приятели не включали в свои планы женщин, они были чересчур застенчивы и неловки в их присутствии, но ставили себе это в заслугу, считая себя высшими натурами. Клод в течение двух лет томился любовью к молоденькой модистке и каждый вечер издали следовал за ней, но никогда у него не хватало смелости сказать ей хотя бы одно слово. Сандоз мечтал о приключениях, о незнакомках, встреченных в путл, о прекрасных девушках, которые самозабвенно отдадутся ему в неведомом лесу и, растаяв в сумерках, исчезнут как тени. Единственное любовное приключение до сих пор смешило приятелей, до того оно им представлялось теперь глупым: в тот период, когда они занимались в коллеже музыкой, они простаивали ночи напролет под окнами двух барышень — один играл на кларнете, другой на корнет-а-пистоне; чудовищная какофония их серенад вызывала возмущение обитателей квартала, пока наконец взбешенные родители не вылили им на голову содержимое всех ночных горшков, имевшихся в доме».
Эти дни наложили неизгладимый отпечаток на Поля и Эмиля. Последний никогда не уставал вспоминать их. Он делал это и в «Исповеди», и в других сочинениях, например в эссе о Мюссе. Для Поля, художника, земля Прованса, порождающая чувства, описанные Золя, обладала еще большей значительностью в его работе. Но мы должны заметить, что мальчики, хоть и не знали того, были весьма современны в своих чувствах и стремлениях. Летом 1847 года Флобер и Максим дю Кан путешествовали по полям Бретани с посохами и заплечными мешками и находили «истинную свободу» в своем бродяжничестве. В 1849 году Гонкуры, одетые подобно бедным молодым художникам, странствовали по Франции. В 1850-м Курбе заявил: «В нашем сверхцивилизованном обществе я должен показать пример жизни дикаря, я должен освободиться от правительства… И вот я начинаю кочующую и независимую жизнь цыган». В 1854-м его друг Пьер Дюпон опубликовал гимн о радостях вольных дорог; он также написал «Сельские песни» и роман «Крестьяне». Другой приятель Курбе, Макс Бюшо, собирал народные стихи по деревням Франции и переводил крестьянскую поэзию с немецкого. Эжен Сю опубликовал своего «Вечного жида» в 1844–1845 годах, в нем бездомный скиталец воплощал протест трудящегося класса против подавления его свободы. Курбе в 1850 году в литографии со стихами прославил образ странствующего «Апостола Иоанна Фурне, отправляющегося на завоевание мировой гармонии». Однако наиболее значительное определение путешественника-бродяги как героя, отвернувшегося от дегуманизированной жизни городов, как истинно независимого, как глашатая вести о братской земле появилось в большом полотне Курбе «Здравствуйте, господин Курбе». В этой картине сюжетом служит встреча художника с богачом и его слугой, которые его почтительно приветствуют. Однако это является лишь предлогом, а иконографически изображение восходит к встрече Вечного странника — Вечного жида — с двумя бюргерами, то есть к популярному мотиву народных гравюр. Друг Курбе Шанфлери, оказывавший ему поддержку, сделал важное исследование «История народной картинки», опубликованное в 1869 году; он работал над разделом о Вечном жиде по крайней мере за двадцать лет до публикации. Бальзак, что весьма показательно, называл себя Вечным жидом Мысли, «всегда на ногах, вечно в движении, без отдыха, без удовлетворения чувств». Шелли в течение всей своей жизни был одержим образом Вечного жида. Амьель в своем «Дневнике» в записи от 13 августа 1865 года связывает бродяжничество с целым комплексом причин и стимулов, берущих начало еще от Руссо. «Это был он, который открыл странствия пешком еще до Тоффлера, мечтательность до «Рене», «литературную ботанику» еще до Жорж Санд, религиозные службы природе до Бернардена де Сен-Пьера, демократическую теорию до революции 1789 года».