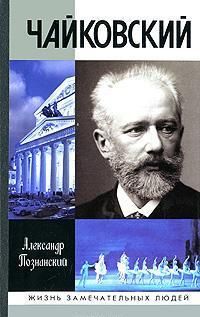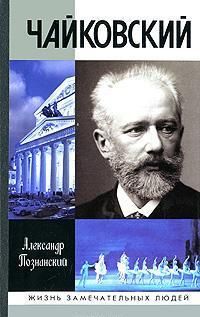Известны нам также два имени его одноклассников — и единственное упоминание о них в письмах мы находим опять-таки в сентиментальном контексте: «В среду 25 апреля я праздновал мое рождение и очень плакал, вспоминая счастливое время, которое я проводил прошлый год в Алапаихе, но у меня были — 2 друга Белявский и Дохтуров, которые меня утешали. Мамашичка, Вы видели, когда я поступил в приготовительный] кл[асс], Белявского, я вам говорил, что он мой друг» (письмо от 30 апреля 1851 года).
И все же было бы ошибкой думать, что подросток постоянно пребывал в печали и сентиментальном настроении. Как и все дети его возраста, он не прочь был предаваться веселью и проказам. В одном из писем родителям описывается, как он с приятелями играл веселую польку на рояле, а другие ученики танцевали и наделали столько шума, что разгневали преподавателя, запрещавшего танцевать в эти часы. При его появлении все кинулись врассыпную, и только один Петя замешкался. На вопрос: кто именно танцевал — мальчик отвечал, что танцующих было так много, что он никого не запомнил. Преподаватель, Иосиф Берар, который вел литературу и французский язык, был любимым учителем Пети, и мальчик долго еще потом раскаивался в своем обмане. По словам композитора, Берар, человек почтенного возраста, обладал исключительно ангельской добротой («настоящий ангел доброты»), и отчасти благодаря его влиянию десятилетний Петя снова начал писать стихи по-французски, как это было еще при Фанни. Сохранилось одно из стихотворений этого периода, наивное, но искреннее:
Когда молюсь от сердца я,
Господь мою молитву слышит.
Молитва наша есть сестра.
Она, как свет,
Нам душу освещает.
Вместе со своими соучениками Петя побывал на балу в Дворянском собрании, где впервые близко увидел императора Николая I. На балу было очень весело, мальчик танцевал и участвовал в лотерее — выиграл игрушечного солдатика в треуголке и «ризинку (sic), абделанную (sic) слоновой костью». В июне 1851 года Петю пригласили погостить в деревню, однако главной темой писем родителям явилось страстное желание вернуться в Петербург. Наконец в сентябре его отец ненадолго приехал в столицу для устройства личных дел. Жизненные условия в Алапаевске оставались тягостными. А Саше и Ипполиту пора уже было поступать в школу. Поэтому Чайковские начали искать способ вернуться в Петербург.
Несколько недель Николай и Петр, к величайшему утешению и удовольствию последнего, прожили вместе с отцом. Но с отъездом родителя братья уже считали недели и дни до прибытия всей семьи. Между тем конфликт с правлением вынудил Илью Петровича подать в отставку с поста директора Алапаевских заводов, в силу чего отъезд стал действительно неизбежным. Глава семьи, однако, не торопился, видимо, надеясь на помощь друзей, пытавшихся добиться для него подходящей должности в Петербурге. Процесс этот затянулся на шесть лет, которые Чайковские, обосновавшись, наконец, в городе на Неве с мая 1852 года, прожили, надо полагать, на накопленные сбережения. Судя по всему, денег иногда не хватало, что заставляло переезжать с места на место и время от времени жить совместно с родственниками. Илья Петрович и Александра Андреевна сняли квартиру недалеко от училища на Сергиевской улице в доме 41, принадлежавшем генерал-майору Николаеву.
Пока же, ожидая воссоединения, Петя продолжал тосковать. В январе 1852 года он пишет родителям, что недавно, музицируя на школьном рояле, он стал исполнять алябьевского «Соловья» и при исполнении этой вещи погрузился в воспоминания: «Ужасная грусть овладела мною, то я вспомнил, как играл ее в Алапаеве вечером и вы слушали, то, как играл ее 4 года тому назад в С.-Петербурге с моим учителем г. Филипповым, то вспомнил, как вы пели эту вещь со мной вместе, одним словом, вспомнил, что это всегда была ваша любимая вещь. Но вскоре появилась новая надежда в моей душе: я верю, в такой-то день или в такую-то ночь вы снова приедете и я снова буду в родном доме. Целую ваши ручки столько раз, сколько капель в море».
В мае он успешно выдержал вступительный экзамен в Училище правоведения и был принят на младший курс. Это было первое петербургское лето, которое Петр, наконец, провел вместе со своей семьей. Его отец снял усадьбу на Черной речке, что в северной части города, и пригласил туда двух своих молоденьких племянниц, Лидию и Анну, так и оставшихся жить с ними. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, Анна и ее юная кузина быстро подружились с Петром, и дружба эта сохранилась на протяжении всей их жизни. Много лет спустя Анна (в замужестве Мерклинг) вспоминала, что Чайковский был в то время «мальчиком худеньким, нервным, сильно восприимчивым. Он всегда ластился и нежился около Александры Андреевны. Вообще он отличался ласковостью, в особенности к матери. Я помню его висящим у меня на руках…».
Модест Ильич назвал эту эпоху жизни брата «самой бедной по биографическому материалу»: «Единственное, что он вспоминал из этого времени, это (опять же! — А. П.) посещения Александрой Андреевной училища, свой восторг при этом и, как ему удавалось видеть ее иногда и посылать воздушные поцелуи из углового дортуара IV класса, когда она посещала свою сестру… жившую… окна в окна с Училищем правоведения».
Осенью 1853 года семья Чайковских переехала совсем близко к своему любимому сыну-правоведу и сняла квартиру в Соляном переулке, 6, в доме Лещевой возле Пустого рынка.
На фоне столь пылкой привязанности к матери, которую Петр «любил какой-то болезненно-страстной любовью», ее внезапная смерть от холеры 13 июня 1854 года должна была обернуться для него невыразимой трагедией. Спустя двадцать пять лет, в годовщину ее смерти, он признавался в письме Надежде Филаретовне фон Мекк, что «это было первое сильное горе, испытанное мною. Смерть эта имела громадное влияние на весь оборот судьбы моей и всего моего семейства. Она умерла в полном расцвете лет, совершенно неожиданно, от холеры, осложнившейся другой болезнью. Каждая минута этого ужасного дня памятна мне, как будто это было вчера».
Ипполит Ильич позже вспоминал: «Когда мамаша впала в тяжкое состояние болезни, всех детей без исключения перевели в дом тети Лизы на Васильевский остров 2-й линии. <…> Когда почувствовалось приближение смерти мамаши, не помню кто, но кто-то приехавший из Соляного переулка, кажется, тетя Лиза, обсуждали, кого повезти из детей под благословение матери. Помню, что взяли Сашу и Петю. <…> Брат Коля… двое малюток [Модест и Анатолий. — А. П.] и я остались в доме Шилле. Видя грусть Коли, мне стало жутко. Я как был, чуть что не без шапки, которую от меня спрятали намеренно, бросился бежать с Васильевского в Соляный переулок. Мне было тогда 11 лет. Не зная обстоятельно расположения Петербурга, я обращался к прохожим с расспросами. Видя меня взволнованным, многие обращали на меня внимание, и на вопросы куда я тороплюсь, я, не без некоторой рисовки, объяснял, что тороплюсь к умирающей матери, чем вызывал заметное ко мне сострадание. Подбежал я к воротам нашего дома как раз тогда, когда выходили из ворот Петя и чуть ли не Маня с Сашею, объявившие мне, что “все кончено”. Меня вернули домой, не позволив подняться в квартиру».