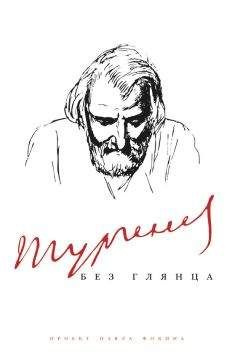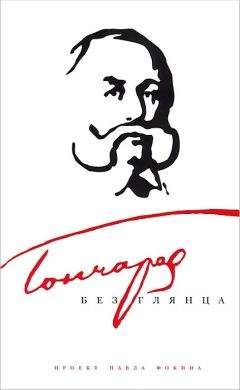Петр Августович Монтеверде. Из отчета «Санкт-Петербургских ведомостей» о Музыкально-литературном вечере 8 июня 1880 г.:
И. С. Тургенев читал «Зиму», стихотворение Пушкина. Излишне говорить об рукоплесканиях и овациях маститому чтецу.
Затем А. Ф. Писемский прочел стихотворение «Полководец»…
Ф. М. Достоевский прочел три небольшие стихотворения чествуемого поэта: «Битва при Зеницы великой» и «Песня о Георгии Черном» – южно-славянские эпопеи, и сказку «Про бурую медведицу», которую почтенного чтеца заставили повторить.
Во второй части П. В. Анненков прочел «Пир Петра Великого», И. В. Самарин продекламировал «Сказку о рыбаке и рыбке», С. А. Юрьев прочел «Стансы». <…>
Ф. М. Достоевский продекламировал с глубоко-взволнованным видом стихотворение Пушкина «Пророк». Два раза заставила своими рукоплесканиями и криками публика Ф. М. Достоевского повторить это стихотворение. <…>
Заключительный апофеоз был тот же, что и в первый вечер, с тою только разницей, что на этот раз, после дам, первым подошел к бюсту поэта и увенчал его лавровым венком не И. С. Тургенев, а Ф. М. Достоевский. За Достоевским подошел Тургенев и положил к подножию венок, поднесенный ему в тот же вечер группою почитателей. За Тургеневым прошла Юрьева, Потехин, Самарин, Анненков, Чаев и Горбунов. Тут же сделана была горячая овация Н. Г. Рубинштейну, которого при громе рукоплесканий И. С. Тургенев приветствовал и благодарил.
В 1869 и в 1880 годах Тургеневу пришлось давать письменные ответы на ряд вопросов, предложенных ему одним из французских журналов…
1869 1880
Ваша любимая добродетель?
Пылкость… Молодость…
Любимое качество у мужчины?
Доброта. 25-летний возраст.
Любимое вами качество у женщины?
Доброта. 18-летний возраст.
Ваше любимое занятие?
Охота. Нюхать табак.
Главнейшая черта вашего характера?
Леность. Леность.
Как вы представляете себе счастье?
Иметь превосходное здоровье. Ничего не делать.
Как вы представляете себе несчастье?
Потерять зрение. Быть обязанным что-нибудь делать.
Ваши любимые цвета и цветы?
Голубой, нарцисс. Серый и цветная капуста.
Кем бы вы хотели быть, если бы не были самим собой?
Моей собакой Пегасом. Никем.
Где предпочли бы вы жить?
Там, где я свободен идти, куда хочу.
Там, где никогда не бывает холодно.
Ваши любимые прозаики?
Сервантес. Я не читаю более.
Ваши любимые поэты?
Гомер, Гете, Шекспир, Пушкин. Я не читаю более.
Ваши любимые художники и композиторы?
Рембрандт, Моцарт, Шуберт.
Я не смотрю и не слушаю более.
Ваши любимые герои в истории?
Вашингтон, Перикл. Тот, кто открыл устрицы.
Ваши любимые героини в истории?
Г-жа Ролланд. Все хорошие кухарки.
Ваши любимые герои в изящной литературе?
Король Лир, Прометей. Фальстаф и Гаргантюа.
Ваши любимые героини в изящной литературе?
Джульетта. Г-жа Коробочка.
Ваше любимое кушанье и напиток?
Беф и шампанское.
Все, что хорошо переваривается.
Ваши любимые имена?
Борис, Мария. Спиглазов.
Что вы сильней всего ненавидите?
Тараканов. Визиты.
Кого вы больше всего презираете в истории?
Наполеона, Торквемаду. Того, кто мешает мне спать.
Каково теперь ваше душевное состояние?
Душевное спокойствие. 0 (ноль).
К какому пороку вы наиболее снисходительны?
К пьянству. Ко всем.
Каков ваш любимый девиз?
Laissez faire, laissez passer[61]. Покойной ночи.
Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826–1911), историк, публицист, издатель журнала «Вестник Европы»:
История же их, совершенно случайная, началась несколько раньше, – когда я заехал к Т., в начале августа (1882 г. – Сост.), при первом моем проезде чрез Париж. Как теперь помню, входя к нему в кабинет (ровно за год пред его смертью), я, по обычаю, постучал; незадолго пред тем он жестоко страдал, и я думал встретить его расслабленным, на костылях, а потому я был приятно удивлен, услышав громко произнесенное им: entrez![62] Он сидел за своим кабинетным столом, в обычной его вязаной куртке, и что-то писал; увидев меня, он очень быстро встал и пошел ко мне навстречу. «Э! да вы притворялись больным, – заметил я ему шутя, – да разве такие бывают больные!» – «А вот вы увидите, – ответил он мне, – таким молодцом я могу быть не более пяти минут; а затем раздается боль в лопатках, и я должен буду поспешить сесть; мне теперь придумали машинку, которая нажимает мне с одной стороны грудь, а с другой – лопатку, и я могу даже спускаться вниз по лестнице – в дом». Вообще я думал тогда, что Т., как это бывает, находится более под сильным впечатлением пройденной им болезни и под страхом ее возвращения, но в настоящую минуту его здоровье весьма удовлетворительно. Среди разговора я спросил Т., не читал ли он в английских газетах приятное известие, будто он дописывает большой роман. Он энергически отрицал этот слух: «А дописываю я, как вы знаете, „После смерти“[63], и когда вы поедете назад, рукопись будет готова. Впрочем, – прибавил он, подумав, – хотите, я докажу вам на деле, что я не только не пишу романа, но и никогда не буду писать!» Затем он наклонился и достал из бокового ящика письменного стола портфель, откуда вынул большую пачку написанных листков различного формата и цвета. На выражение моего удивления: что это такое может быть? – он объяснил, что это нечто вроде того, что художники называют эскизами, этюдами с натуры, которыми они потом пользуются, когда пишут большую картину. Точно так же и Тургенев, при всяком выдающемся случае, под живым впечатлением факта или блеснувшей мысли, писал на первом попавшемся клочке бумаги и складывал все в портфель. «Это мои материалы, – заключил он, – они пошли бы в дело, если бы я взялся за большую работу; так вот, чтобы доказать вам, что я ничего не пишу и ничего не напишу, я запечатаю все это и отдам вам на хранение до моей смерти». Я признался ему, что я все-таки не хорошо понимаю, что это такое за «материалы», и просил его, не прочтет ли он мне хоть что-нибудь из этих листков. Он и прочел сначала «Деревню», а потом «Машу». Мастерское его чтение последней подействовало на меня так, что мне не нужно было ничего к этому присоединять; он прочел еще две-три пьесы. «Нет, И. С., – сказал я ему, – я не согласен на ваше предложение; если публика должна ждать вашей смерти для того, чтобы познакомиться с этою прелестью, то ведь придется пожелать, чтобы вы скорей умерли; на это я не согласен; а мы просто напечатаем все это теперь же». Тут он мне объяснил, что между этими фрагментами есть такие, которые никогда или очень долго еще не должны увидать света: они слишком личного и интимного характера. Прения наши кончились тем, что он согласился переписать только те, которые он считает возможными для печати: и действительно, недели через две прислал мне листков 50, тщательно и собственноручно переписанных им, как это всегда бывало с его рукописями. При обратном моем проезде, когда я был у него 5-го сентября в последний раз, Т. выразил сомнение относительно только одной пьесы, особенно замечательной, и потом кончил тем, что в корректуре вынул ее и заменил другою.