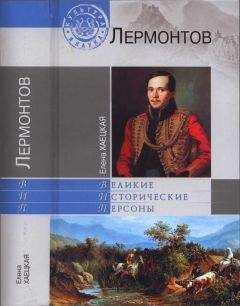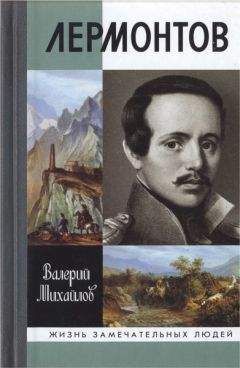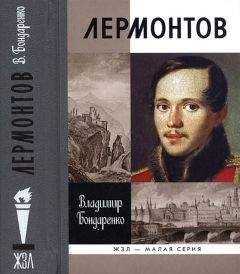Давайте еще раз перечитаем последние слова Мцыри. Рассказ закончен — теперь прощание:
Прощай, отец… дай руку мне;
Ты чувствуешь, моя в огне…
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожег свою тюрьму
И возвратился вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой…
Но что мне в том? — пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют…
Увы! — за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял…
Опустим последние слова — завещание о месте погребения — и еще это, последнее: «И с этой мыслью я засну и никого не прокляну!»
Вот самое опасное место поэмы. Мцыри променял бы небесный рай на земной. Если бы на то была Божья воля (если бы удалось). Но Божья воля — на другое: возвратиться в монастырь и не умереть без исповеди. Здесь есть диалог с Творцом — и нет ни малейшего сомнения в Творце. Тем более нет вызова Творцу. Человеческая воля была бы — да, жил бы в земном раю (как завершилась бы жизнь в этом земном раю, каким пришел бы Мцыри, свершись все по его желанию, к вечности — другой вопрос; может быть, и хорошо бы все закончилось). Но Промысел рассудил иначе — и Мцыри покоряется. Он не отталкивает руку священника, как это сделал последовательный богоборец Овод: «Падре… ваш бог… удовлетворен?» — последние слова пламенного революционера. В отличие от него Мцыри принимает все как есть.
Спустя два года в горах Кавказа умрет Лермонтов. Умрет от последствий дуэли, без священника. О его последних минутах будет знать только Глебов, его секундант. А Глебов всю свою, тоже недолгую, жизнь будет молчать. Кончина Пушкина от последствий дуэли была самая христианская — были и священник, и друзья, свидетели его последних минут, покаяния, примирения с Церковью. Лермонтову этого не было дано — поэтому на него можно вешать клеймо «демониста» и «богоборца»; а кто действительно может знать, как он уходил из земной жизни? Если даже Мцыри — который сказал все и до самого конца — был понят и истолкован неправильно…
* * *
Августовский номер «Отечественных записок» напечатал стихотворение «Три пальмы (Восточное сказание)», подписанное «М. Лермонтов».
Белинский в полном восторге. «… На Руси явилось новое могучее дарование — Лермонтов, — пишет он в начале октября 1839 года Станкевичу, — вот одно из его стихотворений:
ТРИ ПАЛЬМЫ (Восточное сказание)
В песчаных степях аравийской земли
Три гордые пальмы высоко росли.
Родник между ними из почвы бесплодной,
Журча, пробивался волною холодной,
Хранимый, под сенью зеленых листов,
От знойных лучей и летучих песков.
И многие годы неслышно прошли;
Но странник усталый из чуждой земли
Пылающей грудью ко влаге студеной
Еще не склонялся под кущей зеленой;
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.
И стали три пальмы на бога роптать:
«На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы,
Колеблемы вихрем и зноем палимы,
Ничей благосклонный не радуя взор?..
Не прав твой, о небо, святой приговор!..
И только замолкли, — в дали голубой
Столбом уж крутился песок золотой,
Звонков раздавались нестройные звуки,
Пестрели коврами покрытые вьюки,
И шел, колыхаясь, как в море челнок,
Верблюд за верблюдом, взрывая песок.
Мотаясь, висели меж твердых горбов
Узорные полы походных шатров;
Их смуглые ручки порой подымали,
И черные очи оттуда сверкали…
И, стан худощавый к луке наклоня,
Араб горячил вороного коня.
И конь на дыбы подымался порой
И прыгал, как барс, пораженный стрелой;
И белой одежды красивые складки
По плечам фариса вились в беспорядке;
И с криком и свистом носясь по песку,
Бросал и ловил он копье на скаку.
Вот к пальмам подходит, шумя, караван;
В тени их веселый раскинулся стан.
Кувшины, звуча, налилися водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданых гостей,
И щедро поит их студеный ручей.
Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал, —
И пали без жизни питомцы столетий!
Одежду их сорвали малые дети,
Изрублены были тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.
Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь продолжал караван;
И следом песчаным на почве бесплодной
Виднелся лишь пепел седой и холодный;
И солнце остатки сухие дожгло,
А ветром их в степи потом разнесло.
И ныне всё дико и пусто кругом;
Не шепчутся листья с гремучим ключом:
Напрасно пророка о тени он просит, —
Его лишь песок раскаленный заносит,
Да коршун хохлатый, степной нелюдим,
Добычу терзает и щиплет над ним.
Какая образность! — так всё и видишь перед собою, а, увидев раз, никогда уж не забудешь! Дивная картина так и блестит всею яркостию восточных красок! Какая живописность, музыкальность, сила и крепость в каждом стихе, отдельно взятом! Идя к Грановскому, нарочно захватываю новый № «Отечественных записок», чтобы поделиться с ним наслаждением — и что же? — он предупредил меня: какой чудак Лермонтов — стихи гладкие, а в стихах черт знает что — вот хоть его «Три пальмы» — что за дичь! — Что на это было отвечать? Спорить? — но я потерял уже охоту спорить, когда нет точек соприкосновения с человеком. Я не спорил, но, как майор Ковалев частному приставу, сказал Грановскому, расставив руки: «Признаюсь — после таких с вашей стороны поступков, я ничего не нахожу» — и вышел вон. А между тем этот человек, со слезами восторга на глазах, слушал «О царе Иване Васильевиче, молодом опричнике и удалом купце Калашникове». Не значит ли это того, что у него, для искусства, есть только непосредственное чувство, не развившееся и не возвысившееся до вкуса?..»
В ноябре «Отечественные записки» печатают повесть «Фаталист». Новый кусок «Героя» становится известен публике.
В примечании редакции сообщалось: «С особенным удовольствием пользуемся случаем известить, что М. Ю. Лермонтов в непродолжительном времени издаст собрание своих повестей, и напечатанных и ненапечатанных. Это будет новый, прекрасный подарок русской литературе». 5 ноября редактор и издатель «Отечественных записок» A.A. Краевский пишет цензору A.B. Никитенко: «Со мной случилась беда ужасная. Наборщики и верстальщик в типографии, вообразив, что от вас получена уже чистая корректура «Фаталиста» (тогда как такая получена только от С. С. Куторги [второго цензора]), третьего дня отпечатали весь лист, в котором помещалась эта повесть, оттиснув таким образом 3000 экз…. можете представить весь мой ужас… прошу вас позволить… напечатать эту статью без ваших изменений… Я бы не умолял вас… если бы не видел, что эта маленькая статейка может пройти в своем первоначальном виде. Лермонтова любит и князь Михаил Александрович Дундуков-Корсаков, и министр (С. С. Уваров); право, тут худа быть не может…»