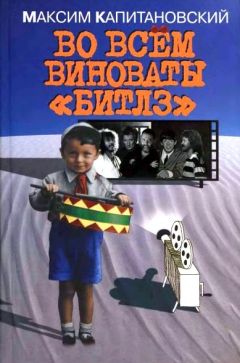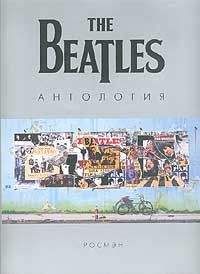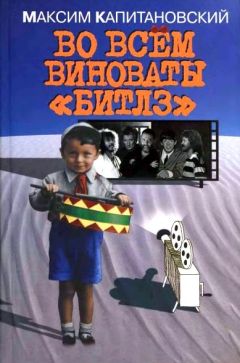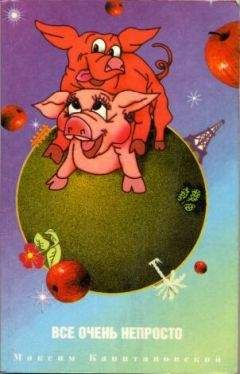Я посмотрел на Сарая да на себя — боже мой: выглядим мы с ним в джинсиках и кедиках как двое настоящих вахлаков, вернее как трое вахлаков (он-то запросто на двух тянет).
Я хотел было закричать, что у меня дома костюм есть, но смотрю — никто особо над нами не смеется, а с Кар-Саром даже некоторые на иностранных языках здороваются. Он им с достоинством по-русски отвечает.
Мимо пара проходит — девушка, как принцесса, в зелёном вечернем платье с молодым человеком в смокинге.
— Вы помните? — это принцесса щебечет. — спускаешься с «place de Greve» по «rue Minion», и вот направо внизу есть местечко одно симпатичное, почти что лучшее в Париже…
Джентльмен сообщает: «Нет, извините, я в это время в Милане был, в La Skala пел».
Я думаю: «Да, вот это попали!». Отошел к скамеечке — ноги меня уже плоховато держали. А рядом опять разговор: «Вам нравится ранний Тинторетто?»
— Еще бы! Это ж сплошной восторг, но я все-таки предпочитаю Малых Голландцев или в крайнем случае братьев Ге. А каков Мурильо! Богатая палитра, крупный мазок! Перфектно!
Вот так тусовка! Я тоже не какой-нибудь там им (или им там)! Из себя ничего, и «Фабрику звёзд» смотрю регулярно. Но тут! Модели и балеруны, художницы и артисты — все сюсюкают и выпендриваются ужасно. Моя бабушка, царствие ей небесное, привезла в свое время из своей Ростовской области Борисоглебского района деревни Титово шикарный термин, характеризующий людей такого типа: «с ваткой в жопке». Короче, почти у всего деньрожденческого контингента (даже у дам) эта самая ватка, выражаясь, конечно, фигурально, просматривалась довольно уверенно.
Вскоре на белоснежную террасу главного здания вышла высокая худощавая женщина в потрясающем чёрном кружевном платье. В её руке блеснул колокольчик, наверняка серебряный, и над беседкой и лужайкой, над дамами и их кавалерами, над славным писательским поселком Красная Пахра, да и вообще над всей европейской частью России поплыл старинный, давно забытый и от этого еще более волнующий мелодический звон. Похоже, всех звали к столу.
Я хотел было пристроиться где-нибудь с краю на табуреточке, чтобы в случае необходимости свалить, но мама балеруна Артура, сегодняшнего деньрожденца, рассудила по-другому.
Руководствуясь великосветскими добрыми правилами ведения стола, вычитанными из расширенного и дополненного издания Елены Молоховец, мадам в чёрном платье расположила поверх каждого прибора специальную карточку с золотым обрезом, на которой готическим шрифтом с вензелями было начертано имя и титул гостя. Не один вечер, вероятно, прокорпела мамаша над планом рассадки, учитывая пол, возраст и род занятий каждого, чтобы рассадить гостей «по интересам» и дать им возможность вести за столом приличные и светские разговоры.
Так вот, на умопомрачительной визитке Сарая было выведено: «Господин Юрий Фролов. Друг».
Я долго искал своё место, пока наконец не наткнулся на карточку «Дама господина Фролова», то есть баба Сарая.
Усевшись почти напротив него, или, как сказали бы в этой умной компании, — визави, — я увидел справа от себя девушку — любительницу братьев-голландцев, а слева завсегдатая миланских подмостков.
Тем временем две молодые приятные женщины в крахмальных передничках, по-видимому крепостные, откупорили несколько бутылочек шампанского «Вдова Клико» и стали раскладывать на тарелки по маленькому тонюсенькому кусочку копчёной рыбки.
Важно было, чтобы рыба была такой толщины, дабы сквозь неё удобно прочитывалась марка фарфора. Тут-то и оказалось, что я дал ужасающего маху: фарфор назывался не «Веджвуд», а «Кинг Веджвуд». Как я мог так обмишуриться, до сих пор не понимаю.
Пока я скромно переживал своё потрясающее фиаско, раздумывая, не превратить ли к чёртовой матери всё шампанское в идеальную воду № 1[4] поднялась артуровская мама, позвенела ножичком о фужер и произнесла короткий, но убойный в протокольном плане спич. В смысле, что вот с такими замечательными кадрами, кои собрались за этим скромным (!) столом, она совершенно и абсолютно уверена в самом скором восторжествовании в искусстве красоты, любви, справедливости, добра и зла. Также мама коснулась всё возрастающего мастерства своего сына на балетной ниве и пожелала ему и другим мастерам нижних конечностей больших успехов и процветания. Раздался звон бокалов и — о ужас! — стук ножей по фарфору.
Даже я, потомственный интеллигент в первом поколении, по рассказам во дворе знал, что рыбу ножом не едят. В большом ходу у нас была также история о том, как один гардемарин упал в открытом море за борт, и на него набросилась акула. Молодой человек оказался не робкого десятка или там двадцатка, в общем, он вытащил кортик и хотел от неё отбиться самым ужасным образом, как вдруг акула говорит человеческим голосом: «Что вы, гардемарин, на рыбу и с ножом?!» И тот покорно дал себя сожрать.
Еще Вовка-кривоножка из второго подъезда спорил до посинения, что акула не рыба, а «молокопитающееся», и, будь он на месте этого дурака, уж он бы «дал дрозда».
Одним словом, у меня появилась великолепная возможность показать бомонду что почём. Только я собрался демонстративно и великосветски подъесть эту рыбу прямо ртом с тарелки, как обратил внимание, что едят-то они все при помощи специальных изогнутых ножичков, так что вся моя несостоявшаяся эскапада так бы, верно, и пошла псу под атавистический отросток.
Я быстро отыскал среди своего набора кривой ножик и присоединился к всеобщему молчаливому поеданию.
Слышались звуки «ммм» и редкие цоканья языком, призванные показать, как вкусно и полезно бывает иногда сожрать двадцать граммов копчёной рыбы.
Затянувшееся молчание нарушил «граф» Фролов. Собрав в кулак всю свою вежливость и светскость, набранную им по вокзалам и пивным, состроив улыбку, от которой хотелось бежать сломя голову, он, обращаясь к моей соседке справа, озвучил следующего рода эдикт:
— Милая девушка! Не буде те ли вы так любезны и добры, если вас, конечно, не затруднит, передать, пожалуйста, а я вам буду очень признателен, этот чудный яблочный майонез, а то, ща бля как ебану в рыло, ёб твою мать, блядь, пизда-рыбий глаз!
Это был ШОК. Аристократы сидели, окаменев и раскрыв рты. Судя по бессмысленному выражению на лицах и пустоте в глазах, особенно их поразило иезуитское сравнение упомянутого в грубой площадной форме женского детородного органа с в общем-то индифферентным и, казалось бы, не относящимся к делу рыбьим глазом.
Я приготовился к обороне: ведь если сейчас Сарая начнут метелить, то и его «бабе» достанется. Но нет — все глаза опустили.