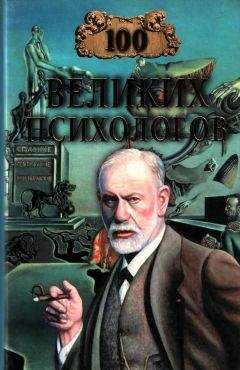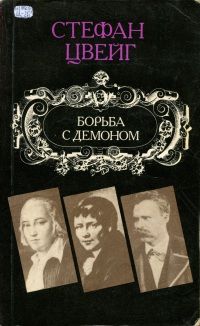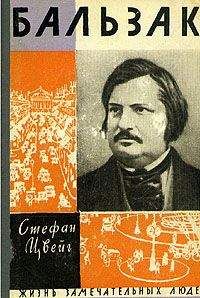Мария Стюарт не в силах ничего ответить. Любое «да», любое «нет», любой вопрос, любая жалоба могут ее выдать. Она еще, пожалуй, не угадывает всей опасности, но страшное подозрение охватывает ее, когда она видит, что Эмиас Паулет отнюдь не собирается везти ее обратно в Чартли. Только теперь понимает она, что означало это приглашение на охоту: ее решили выманить из дому, чтобы беспрепятственно произвести у нее обыск. Конечно же, у нее перерыли и пересмотрели все бумаги, конфисковали всю дипломатическую канцелярию, которой она руководила так открыто, с таким чувством суверенной безопасности, как если бы она все еще была властительницей, а не узницей в чужой стране. А впрочем, у нее будет достаточно, сверхдостаточно времени продумать все свои ошибки и упущения, ибо на семнадцать дней ее задерживают в Тиксолле, где она не может ни написать, ни получить ни единой строчки. Все ее тайны, она это знает, выданы, все надежды растоптаны. Опять она спустилась на ступеньку ниже – она уже не в плену, а на скамье подсудимых.
Мария Стюарт неузнаваема, когда семнадцать дней спустя возвращается в Чартли. Это уже не та женщина, которая с дротиком в руке во главе своих верных мчалась во весь опор на взмыленном коне; медленно, в молчании, окруженная суровой стражей и врагами, въезжает она в ворота замка, усталая, обескураженная, постаревшая, отринув всякую надежду. Действительно ли она встревожилась, увидев, что все ее сундуки и шкафы вскрыты, а бумаги и письма исчезли без следа? Удивлена ли, что поредевшая кучка слуг встречает ее слезами отчаяния? Нет, она знает: все миновало, все прошло. И вдруг маленький эпизод окрашивает ей первые часы тупой безнадежности. Внизу, в людской, стонет женщина в родовых муках: это супруга Керля, ее преданного секретаря, которого уволокли в Лондон, чтобы он свидетельствовал против своей госпожи на ее погибель. Бедная женщина лежит одна, без помощи врача и священника. И королева из братского сочувствия женщине и несчастной спешит вниз, чтобы оказать помощь лежащей в муках, и, за отсутствием священника, сама совершает над ребенком обряд крещения, даруя ему первое христианское напутствие при вступлении в мир.
Еще несколько дней проводит Мария Стюарт в ненавистном ей замке, а там приходит распоряжение перевести ее в другой, где ее ждет еще более надежное, еще более глухое затворничество. Фотерингей зовется тот замок. Из многих замков, где Мария Стюарт побывала как гостья и как узница, в королевском величии и рабском унижении, этот замок последний. Странствие ее приходит к концу, скоро беспокойная узнает покой.
А между тем эта безысходная трагедия кажется нам лишь благостным страданием по сравнению с жестокими муками, на которые обречены в те дни злосчастные молодые дворяне, положившие жизнь за Марию Стюарт. Но так уж повелось, что мировая история пишется с несправедливых, асоциальных позиций, ибо почти всегда она показывает горести властителей, торжество и падение сильных мира. Равнодушно проходит она мимо тех, кто прозябает во мраке, как будто пытки и истязания не так же терзают одно живое тело, как и другое. Бабингтон и его девять товарищей – кто вспомнит, кто назовет сегодня их имена, меж тем как судьба королевы Шотландской увековечена на бесчисленных подмостках, в книгах и картинах! – испытывают в течение трех часов страшной пытки больше физических страданий, чем Мария Стюарт изведала за все двадцать лет своих несчастий. По закону им, правда, полагалась лишь смерть на виселице, но зачинщики заговора считают это недостаточным для тех, кто поддался их науськиваниям. Вкупе с Сесилом и Уолсингемом сама Елизавета решает – еще одно темное пятно на ее совести, – что казнь Бабингтона и его товарищей должна с помощью особенно изощренной пытки превратиться в тысячекратную смерть. Шестерых из этих юных, глубоко верующих энтузиастов – и среди них двух подростков, виноватых лишь в том, что они вынесли своему другу Бабингтону два-три ломтя хлеба, когда он, находясь в бегах, постучался точно нищий, у их ворот, – сперва для вящей законности вешают на минутку и тут же еще живыми вынимают из петли, чтобы вся дьявольская жестокость этого варварского века могла излиться на их трепетную, несказанно страждущую плоть. С чудовищной методичностью приступают палачи к своей омерзительной работе. И так неспешно, так жестоко кромсают эти мясники тела своих трепетных жертв, что даже у подонков лондонской черни сдают нервы, и власти на другой день вынуждены сократить программу мучительств. Еще раз волны ужаса и крови захлестывают эшафот – а все ради этой женщины, которой дана была магическая, роковая власть, погибая, вовлекать в свою погибель все новые молодые жизни. Еще раз – но уже в последний! Великая пляска смерти, начавшаяся с Шателяра, приходит к концу. Никто больше не явится, чтобы положить жизнь за ее мечту о власти и величии. Она сама теперь падет жертвой.
22. Елизавета против Елизаветы
(август 1586 – февраль 1587)
Итак, цель достигнута: Марию Стюарт загнали в ловушку, она дала «согласие», она преступила закон. Елизавете, в сущности, не о чем больше хлопотать: за нее решает, за нее действует правосудие. Борьба, растянувшаяся на четверть столетия, пришла к концу. Елизавета победила, она могла бы торжествовать вместе с народом, который с радостными кликами валит по улицам, празднуя избавление своей монархини от смертельной опасности и победу протестантизма. Но неизменно к чаше ликования примешивается таинственная горечь. Именно теперь, когда Елизавете остается довершить начатое, у нее дрожит рука. В тысячу раз легче было заманивать неосторожную жертву в западню, чем убить ее, вконец запутавшуюся, беспомощную. Пожелай Елизавета насильственно избавиться от неудобной пленницы, ей сотни раз представлялся случай сделать это незаметно. Тому уже пятнадцать лет, как парламент потребовал, чтобы Марии Стюарт топором было сделано последнее внушение, а Джон Нокс на смертном одре заклинал Елизавету: «Если не срубите дерево под самый корень, оно опять пустит ростки, и притом скорее, чем можно предположить». И неизменно она отвечала, что «не может убить птицу, прилетевшую к ней искать защиты от коршуна». Но теперь у нее нет иного выбора, как между помилованием и смертью; постоянно отодвигаемое, но неизбежное решение подступило к ней вплотную. Елизавете страшно, она знает, какими неизмеримо важными последствиями чреват произнесенный ею смертный приговор. Нам сегодня, пожалуй, невозможно представить себе революционную значимость этого решения, которое должно было потрясти до основания по-прежнему незыблемую в то время иерархию мира. Отправить на эшафот помазанницу божию значило показать все еще покорствующим народам Европы, что и монарх подлежит суду и казни, развеять миф о неприкосновенности его особы. От решения Елизаветы зависела не столько судьба смертного, сколько судьба идеи. На сотни лет вперед создан здесь прецедент – остережение всем земным царям о том, что венчанная на царство голова уже однажды скатилась с плеч на эшафоте. Казнь Карла I, правнука Стюартов, была бы невозможна без ссылки на этот прецедент, как невозможна была бы участь Людовика XVI и Марии-Антуанетты[70] без казни Карла I. Своим ясным взглядом, своим глубоким чувством ответственности в делах человеческих Елизавета угадывает всю бесповоротность своего решения, она колеблется, она трепещет, она уклоняется, она медлит и откладывает со дня на день. Снова – и куда Ожесточеннее, чем раньше, – спорят в ней разум и чувство. Елизавета спорит с Елизаветой. А зрелище человека, борющегося со своей совестью, всегда особенно нас потрясает.