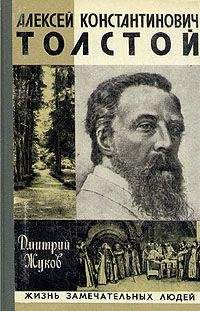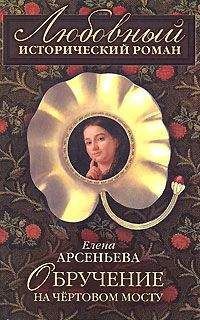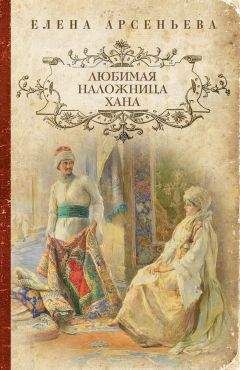«Есть русские нравы, русская физиогномия, русская история, русская археология; есть даже русское искусство - но нет русских начал искусства, как нет русской таблицы умножения. Нет, в строгом смысле, и европейских начал, а есть начала абсолютные, общие, вечные».
Толстой исходил из того, что начала искусства, годные для одного народа, годны и для всех других народов, и тут нет ни привилегированных классов, ни народов. Иначе мы не понимали бы того же Шекспира. Другое дело - национальная физиономия, национальные нравы, национальные краски. Дмитрия Донского нельзя заставлять петь серенады под балконом, а Пожарского расшаркиваться, держа шапку под мышкой.
И тут Толстой вспомнил о своих разногласиях со славянофилами. «Странная боязнь быть европейцами, - писал он. - Странное искание русской народности в сходстве с туранцами и русской оригинальности в клеймах татарского ига! Славянское племя принадлежит к семье индоевропейской. Татарщина у нас есть элемент наносный, случайный, привившийся к нам насильственно. Нечего им гордиться и щеголять! И нечего становиться спиной к Европе, как предлагают сделать некоторые псевдо-русы. Такая позиция доказывала бы только необразованность и отсутствие исторического смысла».
К осени 1866 года Толстой уже был в Петербурге и поселился в Пустыньке. Предстоящая постановка «Смерти Иоанна» на сцене Александринки поглотила его целиком. Он и не представлял себе, какое это хлопотное дело - театр. Напишешь вещь, опубликуешь в журнале, и пожинай горькие или сладкие плоды критики, а театр вовлекает в свою орбиту множество людей, затрагивая и самые высшие сферы; в театре бушуют актерские страсти и плетутся закулисные интриги; и сама цензура по-иному подходит к тому, чему предстоит стать зрелищем...
Она совсем не придиралась к трагедии, когда готовилась публикация в «Отечественных записках», но ее явно насторожил необыкновенный успех произведения. Маркевич писал Толстому еще в Рим, как десятки раз читал трагедию в гостиных, ослепляя отраженным светом петербургских красавиц. Журнал нарасхват. В одном Петербурге он обрел больше сотни новых подписчиков, что по тем временам было почти событием.
Разумеется, кое-кто поругивает Толстого, называет аристократом за то, что он якобы вызывает жалость к погубленным боярам. Правда, - Маркевич, сам не читал этой статьи, но слышал, будто «фельетонист старается уверить публику, что этот милый палач (Иван Грозный. - Д. Ж.) действовал в пользу демократической и социальной республики». Маркевич настраивает Толстого в определенном духе и радуется, что «Русское слово» запретили на пять месяцев. Он передает критические мнения Костомарова и Мельникова о трагедии, уверяет, что все восхищаются языком ее.
Болеслав Михайлович рад был бы поссорить Алексея Константиновича со всеми, а самому стать его Добчинским (так и сказал - Добчинским), незаменимым и верным ходатаем по делам, тем более что это сулит широкие связи во влиятельных кругах, куда его уже давно ввел Толстой. Он успевает всюду - к Алексею Бобринскому, затеявшему миллионное дело с Поземельным банком, к Феофилу Толстому, композитору и литератору, писавшему под псевдонимом Ростислав, к директору императорских театров Борху, из разговоров с которыми понял, что ставить «Смерть Иоанна» будут, несмотря на издержки. Он уже и актеров перебирает, проча Самойлова на главную роль, да только тот сомневается, вынесет ли на своих плечах роль «колоссального Иоанна»...
Он же поспешил к Толстому в Пустыньку, чтобы сообщить ему в беседке на пруду, каков был результат заседания Совета Главного управления по делам печати, которому цензор Фридберг рапортовал, что считает возможным представить на сцене трагедию, если убрать из нее «некоторые названия предметов, составляющих атрибуты царской власти, монашества и религиозных обрядов, а также несколько резких фраз». Член Совета Варадинов решил, что не стоит показывать жестокостей царя, упоминать об убийстве им собственного сына, читать синодик по замученным. Да еще царь разводится с седьмой, кажется, по счету женой...
Но, видимо, Гончаров, взявшийся провести трагедию через цензуру побыстрее, поработал среди своих коллег неплохо, и те возражали - какая же это трагедия, если ужасов нет. Напротив, жестокость Ивана Грозного не имеет никакой аналогии с современностью, и сопоставление современного самодержавия с его формами в XVI веке «должно произвести утешительное и, следовательно, полезное впечатление на зрителей».
Сказалось и то, что еще 8 октября Толстой познакомился с влиятельным цензором А. В. Никитенко, который записал в дневнике свое впечатление о поэте:
«Он очень приятный человек, с мягкими аристократическими приемами, и притом умный человек. Он благодарил меня за мой голос в пользу его трагедии по случаю присуждения Уваровской премии, которой, однако, ему не присудили такие великие критики, как Куник, Пекарский...11 Тут был также (П. И.) Юркевич, председатель Театрального комитета, и говорили о постановке «Иоанна Грозного» на сцену... Граф Толстой прочитал набросанные им на бумагу мысли о том, как должны актеры понимать главные роли Иоанна и Годунова. Эти мысли доказывают, что много и глубоко обдумывал автор свое произведение... Беседа продолжалась до двух часов ночи».
Но и при самом благожелательном отношении к Толстому сценическая судьба трагедии не задалась. Лиц в монашеском одеянии, например, закон запрещал выпускать на сцену даже при домашних спектаклях. Министр просвещения начертал уклончивую резолюцию, предоставив Толстому сомнительное право «исключить и заменить по его усмотрению те места, которые обратили на себя внимание цензуры».
Раз уж речь зашла о цензуре, то, пожалуй, стоит рассказать о судьбе всей трилогии. «Смерть Иоанна» сперва разрешили ставить на сцене императорских театров в Петербурге и Москве и некоторых других городах. Но уже 30 июля 1868 года последовало «высочайшее» решение запретить постановку в провинции где бы то ни было. В тот год Толстой оказался в Орле, где местный театр тоже получил отказ, что вдохновило Алексея Константиновича на французское четверостишие о том, как Мельпомену и Клио в клетку посадили, и на саркастические сетования по поводу затруднений старого приятеля Лонгинова, ставшего во главе цензуры.
«Пьесы разделены на несколько категорий: одни разрешены только в столицах, другие - в провинции, третьи - в столицах и в провинции, четвертые - в провинции с утверждения губернатора. Это весьма напоминает формы п_а_р_а_д_н_у_ю, п_р_а_з_д_н_и_ч_н_у_ю, п_о_л_н_у_ю п_р_а_з_д_н_и_ч_н_у_ю, п_о_л_н_у_ю п_а_р_а_д_н_у_ю. Несколько наших лучших генералов сошло с ума от такой путаницы, несколько впало в детство - все застегиваясь да расстегиваясь, двое застрелилось. Сильно опасаюсь, как бы не случилось то же с губернаторами, как бы они не замычали и не встали на четвереньки».