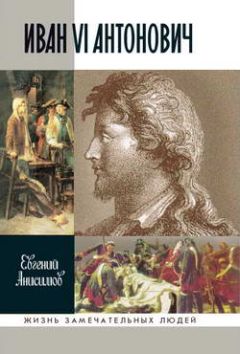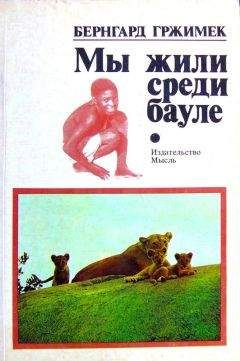Ознакомительная версия.
Гурьев действовал по инструкции, которую получил еще задолго до смерти Анны. Тело бывшей правительницы было анатомировано доктором Манзе, который составил рапорт «о болезнях оной принцессы после родов осмотренных им при анатомии».[513] 10 марта подпоручик Лев Писарев повез тело в Санкт-Петербург, прямо в Александро-Невский монастырь, где срочно готовили место для погребения Анны Леопольдовны. По прибытии в столицу тело вновь было осмотрено докторами, что было сделано с той же целью – устранить возможные слухи о насильственной смерти бывшей правительницы. После этого гроб поставили в церкви, монахи начали читать над ним, а генерал-прокурору Трубецкому было предписано известить публику о смерти Анны Леопольдовны от «огневицы» и о том, что все желающие могут «приходить для прощания к телу принцессы Анны».[514] В официальном извещении о смерти Анны Леопольдовны она была названа «Анной, благоверной принцессою Брауншвейг-Люнебургской». Ни титула правительницы России, ни титула великой княгини за ней не признавалось, равно как и титула императора за ее сыном. В служебных документах чаще всего они упоминались нейтрально: «известные персоны». И вот теперь, после смерти, Анна Леопольдовна для всех стала вновь, как в юности, принцессой.
Хоронили ее не в Петропавловском соборе, а в Александро-Невском монастыре как второстепенного члена семьи Романовых. Панихида и погребение были назначены на восемь часов утра 21 марта 1746 года. В Александро-Невский монастырь съехались все знатнейшие чины государства и их жены – всем хотелось взглянуть на эту женщину, о драматической судьбе которой ходило так много слухов и легенд. Возле гроба Анны стояла императрица Елизавета, а также жена наследника престола Петра Федоровича Екатерина Алексеевна. Императрица плакала – возможно, искренне. Анну Леопольдовну предали земле в Благовещенской церкви. Там уже давно вечным сном спали две другие женщины – вдовствующая царица Прасковья Федоровна и мекленбургская герцогиня Екатерина Ивановна. Так 21 марта 1746 года три женщины, связанные родством и любовью – бабушка, мать и внучка, – соединились навек в одной могиле.
Но история Брауншвейгского семейства на этом не заканчивается, ибо на земле еще оставались жить и страдать дети Анны и ее муж.
* * *
Нам неизвестно, знала ли Анна, умирая в архиерейском доме в Холмогорах, что ее первенец уже целый год живет с ней рядом, в другом, тщательно охраняемом здании. Думаю, что это для нее секретом не было – охранники и слуги были болтливы и наверняка рассказывали ей о сыне. До сих пор непонятен смысл этого распоряжения императрицы – держать раздельно Ивана и его родных. Возможно, Елизавета думала, что таким образом она не позволит родителям воспитать в мальчике, если так можно сказать, «императора в изгнании». По крайней мере, переименование его в Григория, строгие правила изоляции ребенка, завеса тайны вокруг него – всё это говорило о том, что царица хотела, чтобы мальчик никогда не узнал, кто он такой. Но, забегая вперед, скажем, что она опоздала, – четырехлетний ребенок уже знал о своем происхождении и титуле. Мы не знаем, как капитан Миллер вез мальчика и что он отвечал ребенку, отнятому у родителей, у ставших ему близкими и родными кормилицы и няньки все эти долгие недели, которые они, мальчик и охранник, провели в одном возке, но известно, что Ивана привезли в Холмогоры раньше родителей. Комната-камера Ивана была устроена так, что никто, кроме Миллера и его слуги, пройти к императору не мог. Содержали бывшего императора строго. Когда Миллер запросил Петербург: «Когда жена к нему (Миллеру. – Е. А.) приедет, допускать ли <ее> младенца видеть?» – ему в этом отказали. Ивану, по-видимому, так и было суждено за всю оставшуюся жизнь не увидеть ни одной женщины, кроме двух императриц – Елизаветы Петровны и Екатерины П.
Многие факты говорят о том, что разлученный с родителями в четырехлетнем возрасте Иван был нормальным, резвым мальчиком. Из указа Елизаветы охранявшему арестантов в Динамюнде В. Ф. Салтыкову от 11 ноября 1742 года мы узнаем, что двухлетний Иван уже говорил, и высказанное им во время игры с собачкой намерение отсечь голову главному тюремщику семьи, Салтыкову, свидетельствует о многом – прежде всего о несомненно нормальном, даже, может быть, чересчур раннем развитии ребенка. Полковник Чертов, готовивший на Соловках узилище для мальчика, получил инструкцию наблюдать за Иваном, чтобы «в двери не ушел или от резвости в окошко не выскочил». Позже, уже в 1759 году, то есть когда Иван сидел в Шлиссельбурге, офицер Овцын рапортовал, что узник называл себя императором и говорил: «Никого не слушаюсь, разве сама императрица прикажет». Рассказывают также о многочасовой беседе Ивана с Петром III в 1762 году. Когда император спросил экс-императора: «Кто ты таков?», – тот отвечал: «Император Иоанн». «Кто внушил тебе эти мысли?» – продолжал Петр. «Мои родители и солдаты», – отвечал узник, который помнил мать и отца. Он рассказал об офицере Корфе, который был с ним добр и даже разрешал ходить на прогулку. Действительно, мы уже знаем, что Корф был весьма либерален к узникам и всячески им потворствовал.
Всё это означает, что Иван вовсе не был дебилом, идиотом, как его порой изображают. Следовательно, его детство, отрочество, юность, проведенные в холмогорском заточении, были подлинной пыткой, страшным мучением. Вероятно, сидя в темнице, он слышал лишь шумы за стенами своей комнаты, видел только лица своих тюремщиков – начальника охраны и его служителя, которые почему-то называли его Григорием, не отвечали ни на один вопрос, наверняка обращались с ним грубо и бесцеремонно. Сохранилось упоминание о деле по поводу «учиненных человеком его (то есть Миллера. – Е. А.) младенцу продерзостях». Речь шла о пьяном слуге Миллера, который грозился избить тогда уже девятилетнего мальчика и даже приставил к его горлу нож. Вындомский, сменивший уже совсем заскорбевшего Гурьева, был на ножах с подполковником Миллером, охранявшим бывшего императора, и писал на него доносы в Петербург. И одна из повторяемых тем этих доносов – «слабое хранение» младенца-императора Миллером. Солдат охраны докладывал Вындомскому, что, когда он полол на огороде внутри двора капусту, из палаты, в открытое окно из-за спины солдата Семена Зарина, «выглядывая, кричал младенец в то окошко: „Полить-де капусту!“». Позже Вындомский сообщал, что капрал Леонтий Неверов донес ему: когда он рвал в огороде горох, «в окно кричал младенец оному Неверову, называя его: „Не тронь, Неверов, гороху, застрелю!“».[515]
Ясно, что поддерживать полную изоляцию мальчика согласно строгим указам и инструкциям в течение многих лет охрана не могла. Это были простые солдаты, малообразованные офицеры; годами томясь и скучая в Холмогорах, они постепенно забывали строгие указы, не стояли, как предписывал устав, на постах, нарушали дисциплину, пьянствовали. По-видимому, они, вопреки запретам, разговаривали с мальчиком, и от них он многое узнавал о своей жизни. Никто не занимался воспитанием и нравственным совершенствованием Ивана. Общение с солдатами охраны заменяло ему правильное образование, которое в эти годы дети получали у профессионалов, и наверняка это общение не могло восполнить школы и семьи.
Ознакомительная версия.