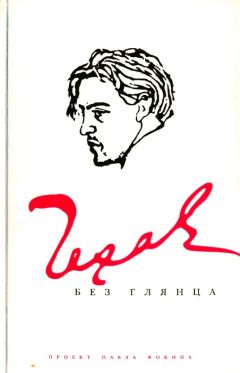Как-то на одной из репетиций, когда мы стали приставать к нему, чтобы он написал еще пьесу, он стал делать кое-какие намеки на сюжет будущей пьесы.
Ему чудилось раскрытое окно, с веткой белых цветущих вишен, влезающих из сада в комнату. Артем уже сделался лакеем, а потом, ни с того ни с сего, управляющим. Его хозяин, а иногда ему казалось, что это будет хозяйка, всегда без денег, и в критические минуты она обращается за помощью к своему лакею или управляющему, у которого имеются скопленные откуда-то довольно большие деньги. Потом появилась компания игроков на бильярде. Один из них, самый ярый любитель, безрукий, очень веселый и бодрый, всегда громко кричащий. В этой роли ему стал мерещиться А. Л. Вишневский. Потом появилась боскетная комната, потом она опять заменилась бильярдной. Но все эти щелки, через которые он открывал нам будущую пьесу, все же не давали нам решительно никакого представления о ней. И мы с тем большей энергией торопили его писать пьесу.
Александр Леонидович Вишневский:
Обычно Антон Павлович тайну наименования пьес берег особливо ревниво. Точно боялся, выдав. сглазить еще не родившееся дитя.
Константин Сергеевич Станиславский:
Осенью 1903 года Антон Павлович Чехов приехал в Москву совершенно больным. Это, однако, не мешало ему присутствовать почти на всех репетициях его новой пьесы, окончательное название которой он никак не мог еще тогда установить. Однажды вечером мне передали по телефону просьбу Чехова заехать к нему по делу. Я бросил работу, помчался и застал его оживленным, несмотря на болезнь. По-видимому, он приберегал разговор о деле к концу, как дети вку сное пирожное. Пока же, по обыкновению, все сидели за чайным столом и смеялись, так как там. где Чехов, нельзя было оставаться скучным. Чай кончился, и Антон Павлович повел меня в свой кабинет, затворил дверь, уселся в свой традиционный утол дивана, посадил меня напротив себя и стал, в сотый раз, убеждать меня переменить некоторых исполнителей в его новой пьесе, которые, по его мнению, не подходили. «Они же чудесные артисты», — спешил он смягчить свой приговор.
Я знал, что эти разговоры были лишь прелюдией к главному делу, и потому не спорил. Наконец мы дошли и до дела. Чехов выдержал паузу, стараясь быть серьезным. Но это ему не удавалось — торжественная улыбка изнутри пробивалась наружу.
— Послушайте, я же нашел чудесное название для пьесы. Чудесное! — объявил он, смотря на меня в упор.
— Какое? — заволновался я.
— Вишневый сад, — и он закатился радостным смехом.
Я не понял причины его радости и не нашел ничего особенного в названии. Однако, чтоб не огорчить Антона Павловича, пришлось сделать вид, что его открытие произвело на меня впечатление. Что же волнует его в новом заглавии пьесы? Я начал осторожно выспрашивать его, но опять натолкнулся на эту странную особенность Чехова: он не умел говорить о своих созданиях. Вместо объяснения Антон Павлович начал повторять на разные лады, со всевозможными интонациями и звуковой окраской:
— Вишневый сад. Послушайте, это чудесное название! Вишневый сад. Вишневый!
Из этого я понимал только, что речь шла о чем-то прекрасном, нежно любимом: прелесть названия передавалась не в словах, а в самой интонации голоса Антона Павловича. Я осторожно намекнул ему на это; мое замечание опечалило его, торжественная улыбка исчезла с его лица, наш разговор перестал клеиться, и наступила неловкая пауза. После этого свидания прошло несколько дней или неделя... Как-то во время спектакля он зашел ко мне в уборную и с торжественной улыбкой присел к моему столу. <...>
— Послушайте, не Вишневый, а Вишнёвый сад. — объявил он и закатился смехом.
В первую минут' я даже не понял, о чем идет речь, но Антон Павлович продолжал смаковать название пьесы, напирая на нежный звук «ё» в слове «Вишнёвый», точно стараясь с его помощью обласкать прежнюю красивую, но теперь ненужную жизнь, которую он со слезами разрушал в своей пьесе. На этот раз я понял тонкость: «Вишневый сад» — это деловой, коммерческий сад, приносящий доход. Такой сад нужен и теперь. Но «Вишнёвый сад» дохода не приносит, он хранит в себе и в своей цветущей белизне поэзию былой барской жизни. Такой
сад растет и цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, гак как процесс экономического развития страны требует этого.
Федор Дмитриевич Батюшков:
Антон Павлович отозвал меня в сторону и шепнул: «Заканчиваю новую пьесу». — «Какую? Как она называется? Какой сюжет?» — «Это Вы узнаете, когда будет готова. А вот Станиславский, — улыбнулся Антон Павлович, — не спрашивал меня о сюжете, пьесы еще не читал, а спросил, что в ней будет, какие звуки? И ведь представьте, угадал и нашел. У меня там, в одном явлении, должен быть слышан за сценой звук, сложный, коротко не расскажешь, а очень важно, чтобы было именно то. что я хочу. И ведь Константин Сергеевич нашел, как раз то самое, что нужно... А пьесу в кредит принимает», — снова улыбнулся Антон Павлович. «Неужели это так важно — этот звук?» — спросил я. Антон Павлович посмотрел строго и коротко ответил: «Нужно». 11о- том улыбнулся: «А Вам сюжет хочется знать. Нет, теперь не буду рассказывать, а только скажу, что театр — ужасная вещь. Так это затягивает, волнует, поглощает...»
Константин Сергеевич Станиславский:
Как раньше, так и на этот раз, во время репетиций «Вишневого сача», приходилось точно клещами вытягивать из Антона Павловича замечания и советы, касавшиеся его пьесы. Его ответы походили на ребусы, и надо было их разгадывать, гак как Чехов убегал, чтобы спастись от приставания режиссеров. Если бы кто-нибудь увидел на репетиции Антона Павловича, скромно сидевшего где-то в задних рядах, он бы не поверил, что это был автор пьесы. Как мы ни старались пересадить его к режиссерскому столу, ничего не выходило. А если и усадишь, то он начинал смеяться. Не поймешь, что его смешило: то ли, что он стал режиссером и сидел за важным столом; то ли, ч то он находил лишним самый режиссерский стол; то ли, что он соображал, как нас обмануть и спрятаться в своей засаде.
— Я же все написал, — говорил он тогда. — я же не режиссер, я — доктор. <...>
Спектакль налаживался трудно; и неудивительно: пьеса очень трудна. Ее прелесть в неуловимом, глубоко скрытом аромате. Чтобы почувствовать его, надо как бы вскрыть почку цветка и заставить распуститься ею лепестки. Но это должно произойти само собой, без насилия, иначе сомнешь нежный цветок, и он завянет.