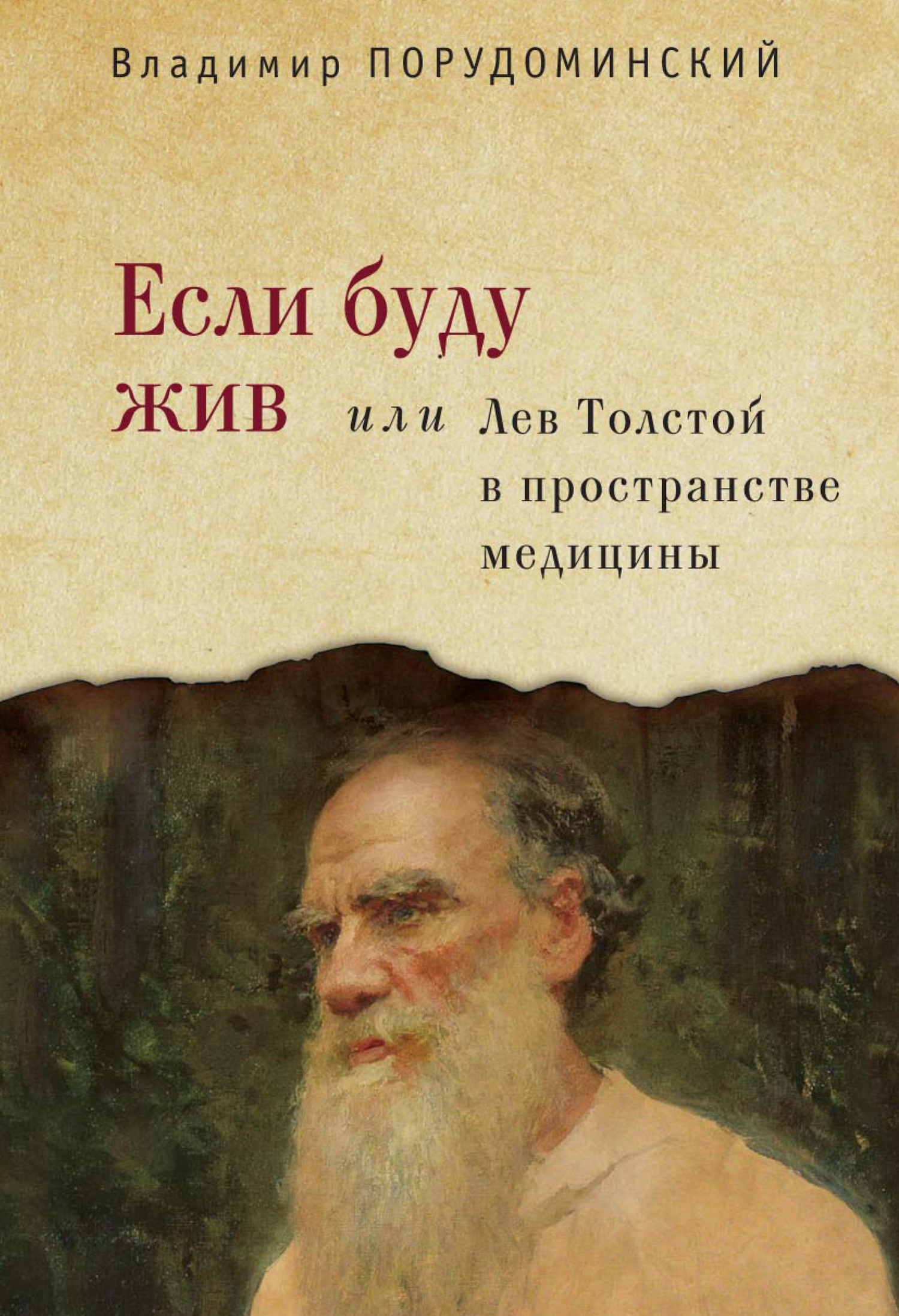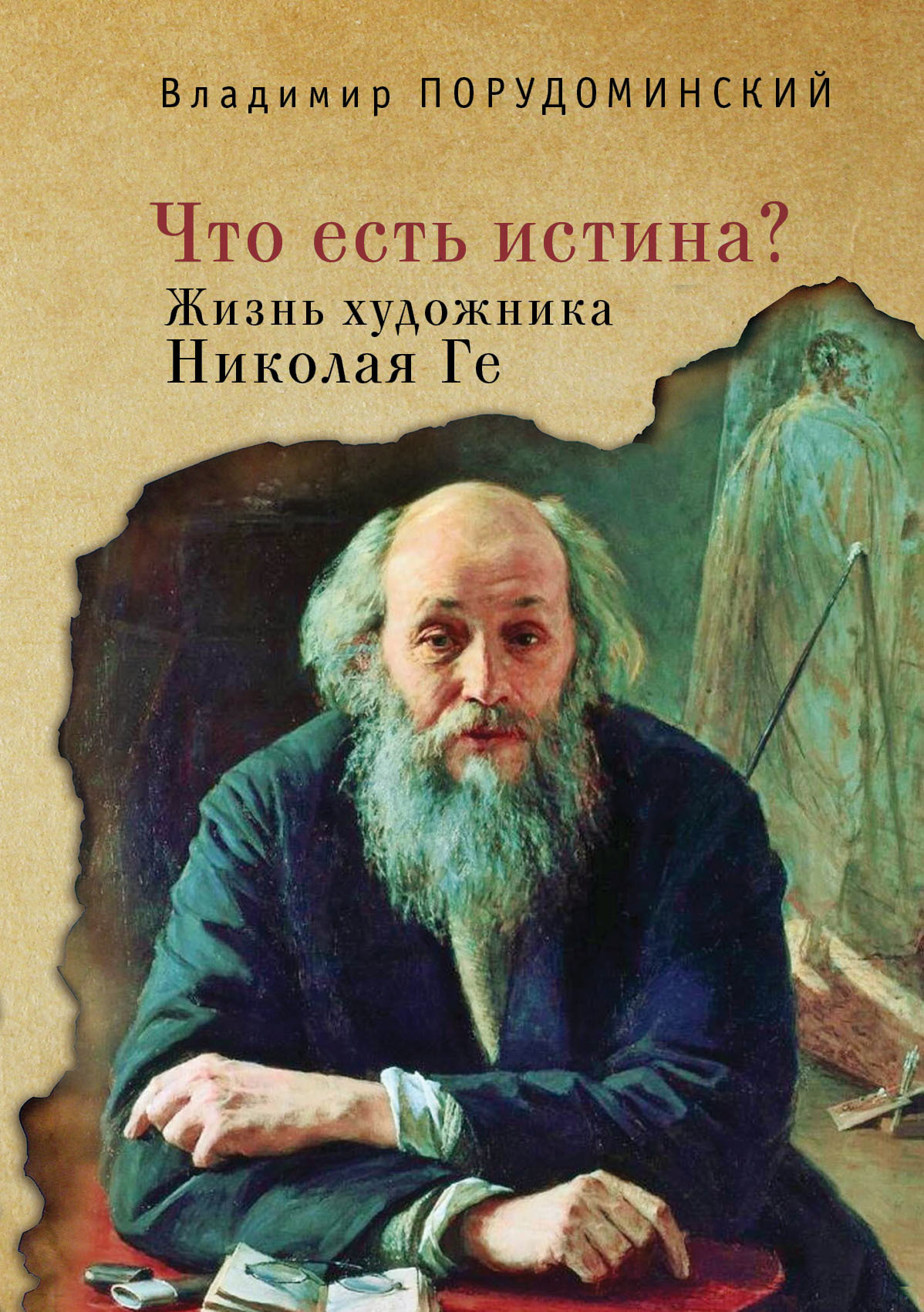class="p1">Человек воспринимает мир вокруг умом, чувством и телом. Смотря по тому, как отзывается человек на впечатления, «сознает» их, в нем действуют и три «сознания»: «сознание ума», «сознание чувства» и «сознание тела». «Сон есть такое положение человека, в котором он совершенно теряет сознание; но так как засыпает человек постепенно, то теряет он сознание тоже постепенно». Первым засыпает высшее «сознание ума», за ним «сознание чувства», последним – «сознание тела», и редко засыпает полностью, обычно оно так или иначе продолжает отзываться на то, что происходит вокруг.
В «Истории вчерашнего дня» подробно воспроизводится процесс засыпания, возникновения сновидения.
«Только что я лег, я думал: какое наслаждение увернуться потеплее и сейчас забыться; но только что я стал засыпать, я вспомнил, что приятно засыпать, и очнулся. Все наслаждения тела уничтожаются сознанием. Не надо сознавать; но я сознал, что сознаю, и пошло, и пошло, и заснуть не могу. Фу, досада какая!» Здесь – целая наука для тех, кто плохо засыпает: не следует проверять, оценивать рассудком свое физическое состояние, надо уметь отдаться на его волю.
Но желание спать берет свое. Он пробует снова. Говорит себе: «Морфей, прими меня в свои объятия». Ум еще не выключен – он услужливо преподносит очередное рассуждение: Морфей <в античной мифологии – бог сновидений> – «это божество, которого я охотно бы сделался жрецом». В дело вступает память: повествователь вспоминает, как обиделась какая-то барыня, которой сказали, что застали ее в объятиях Морфея. Барыня решила, что Морфей – такое же имя, как Андрей, Малафей (тут же – от себя: «Какое смешное имя!»). Воображение (чувственное), потеснив ум, застревает на «объятиях» – и «так ясно и изящно» представляет себе «до плеч голые руки с ямочками, складочками и белую, открытую нескромную рубашку». Он потягивается – сознание ума включается на мгновение и напоминает, что гувернер, следивший за ним в отрочестве, не велел потягиваться. Он успевает подумать, что гувернер похож на знакомого тульского кондитера. Затем картины наплывают одна на другую – верховая езда, охота, снова барыня со своими объятиями, гора, которую повествователь толкает руками (в скобках объяснение: «подушку сбросил» – пробудившееся сознание тела), его лакей в камзоле с лентой через плечо, впрочем, это уже не лакей, а снова барыня, «она». Тульский кондитер стреляет (в скобках: «ставня хлопнула»), начинаются танцы, повествователь вдруг чувствует, что у него панталоны коротки («раскрылись голые колени») – «нельзя описать, как я страдал», потом оказывается, панталон вовсе нет. «Не может быть, чтобы это было наяву; верно я сплю. Проснулся» (снова включается «сознание ума»).
«Моя теория о сне», намеченная в незавершенной «Истории вчерашнего дня», через несколько лет обретает гениальное творческое воплощение в рассказе «Метель». К замыслу произведения Толстого подтолкнул случай, происшедший с ним на пути с Кавказа в Ясную Поляну, когда из-за непогоды он «плутал целую ночь». Теория не осмысляется автором вслух, она таится за страницами рассказа, являет себя в описаниях и образах. Вместе с путником мы незаметно переходим из бодрствования в сон, из яви в сновидение. Дорожные впечатления вызывают быстрые, яркие воспоминания, соединяющиеся затем в общую картину, связное видение. Это видение – еще не сон. Все в нем для путника пока еще ясно, связано одно с другим, объяснимо. И все же это теперь и не воспоминание. В возникшей картине что-то происходит уже по своему «сюжету», не подчиняется ни воле, ни памяти засыпающего путника. Толстой передает состояние, которое, кажется, невозможно передать словами. Он удерживает видение на грани бодрствования и сна. Все вроде бы точно так, как в действительности, но тончайшие, едва уловимые подробности будто сдвигают возникшее в воображении в какое-то иное пространство, отделяют его от нас тончайшей пеленой, которую мы не видим, но ощущаем. Наступление сна обозначается превращением реальных образов видения, вызванных из глубин памяти внешними впечатлениями, в образы фантастические, «темные представления», – смысл их трудно поддается толкованию, но в них, конечно же, тайные желания уснувшего человека, чувства и побуждения, может быть, ему самому неведомые.
«О безнравственности во сне…»
Эту строчку, оборванную многоточием, находим в дневнике 19 10 года. Не знаем, как намеревался Толстой продолжать, но знаем, с чем пришел к неоконченной записи.
На других страницах его тетрадей находим размышления об отсутствии в сновидении разумного нравственного усилия. Во сне человек думает, чувствует, действует, часто не сдерживая себя границами, которых не переступает наяву.
Толстой убежден: ничто так, как сновидения, не открывает тайн душевной жизни. Без изучения сновидений вряд ли возможно постигнуть человека во всех, часто им самим не сознаваемых возможностях, во всей его «текучести». В сновидениях, при их «безнравственности», в том смысле, какое вкладывает в это понятие Толстой, обнаруживаются особенности и устремления личности, которые заложены, существуют в человеке, но которые человек предпочитает не замечать, забыть, старательно прячет от сторонних глаз, от собственного взгляда.
Человеку, избравшему единственно действенный путь улучшения жизни, мира – совершенствование самого себя, стоит быть внимательным к сновидениям. «То, что о себе узнаешь во сне… гораздо правдивее, чем то́, что о себе думаешь наяву. Видишь во сне, что имеешь те слабости, от которых считаешь себя свободным наяву, и что не имеешь уже тех слабостей, за которые боишься наяву, и видишь, к чему стремишься. Я часто себя вижу военным, часто вижу себя изменяющим жене и ужасаюсь этого, часто вижу себя сочиняющим только для своей радости».
Но так ли безнадежно отсутствует в сновидении нравственная сила? Среди записанных им снов обнаружим и такой: «Я взят в солдаты и подчиняюсь одежде, вставанию и т. п., но чувствую, что сейчас потребуют присяги и я откажусь <военная присяга, по убеждению Толстого, противоречит подлинному учению Христа>, и тут же думаю, что должен сейчас отказаться от учения. И внутренняя борьба. И борьба, в которой верх взяла совесть».
Многоточие, оборвавшее строку о безнравственности во сне, означает, скорее всего, что мысль, которую намеревался записать, еще не уяснилась вполне. Знаем, как преимущественно думал об этом Толстой, но последнее слово не сказано, а человек «текуч», может быть, оттого и препнулся, что открылось мысли какое-то новое русло.
«Сопрягать надо»
Ночью перед битвой Николай Ростов едет верхом по линии цепи, в которой рассыпаны его гусары, старается не заснуть – и то и дело засыпает. В голове его странно соединяются, перетекают одно в другое, обретая новое значение, пятна цвета, предметы, слова.
«В левой стороне виднелся… черный бугор, казавшийся крутым, как стена. На бугре этом было белое пятно, которого никак не мог понять Ростов: поляна ли это в лесу, освещенная