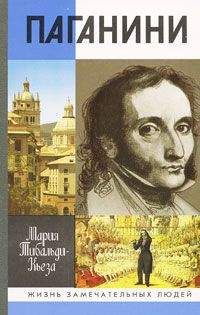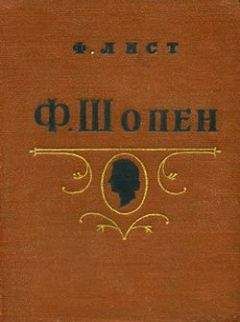Как все артисты, Никколó оставался в глубине души наивен. Но и злопыхателей нашлось немало. И сразу же пошли самые разные слухи о том, будто эти 20 тысяч франков не принадлежали ему. Называли имя Бертена, владельца «Журналь де Деба». Другие уверяли, будто скрипач дал эти деньги только для того, чтобы умилостивить парижскую публику, которую безжалостная статья Жанена настроила против него еще в 1834 году.
Но могли ли знать эти жалкие люди, что Паганини, ставший тенью самого себя, уже не надеялся, что сможет выступать в Париже, и думал лишь о том, как бы уехать в теплые края?.. Что касается остальных, пусть придумывают что угодно. Но тот, кто изучает, исследует и узнает ближе жизнь музыканта, не может даже в какой-то мере допустить, что он способен на подобную комедию.
Нет, Паганини помог Берлиозу по естественному и братскому порыву души. Больной, выглядевший намного старше своих лет, изнуренный беспокойной жизнью, будучи уже на краю могилы, он протянул руку помощи молодому артисту, которого злая судьба готовилась погубить раньше времени. Он услышал в его музыке трепет сильных крыльев гения, чья музыка глубоко взволновала его, и в час крайней горечи и высшего отчаяния поднял его над человеческой ничтожностью, вывел из темного круга физических и душевных страданий, мстивших, давивших, губивших его самого.
Благородный жест и великодушный подарок всего лишь выражали восхищение и благодарность уходящего гения гению восходящему. И результатом явился шедевр – драматическая симфония Ромео и Джульетта. Берлиоз начал писать ее сразу после этого события, посвятил Паганини и пометил на партитуре:
«Эта симфония начата 24 января 1839 года, закончена 8 сентября того же года и впервые исполнена в консерватории под управлением автора 24 ноября следующего года».
А в письме Гумберту Феррану 31 января 1840 года, сообщая об успехе, который имела его новая работа, Берлиоз отмечал:
«Паганини в Ницце, на днях получил от него письмо; он в восторге от „своей работы“! Это действительно его работа, она ему обязана своим существованием».
И каждый раз, с волнением слушая небесные, очаровательные мелодии этой симфонии, которые, к сожалению, Паганини так и не довелось услышать, и страстную любовную песнь двух веронских влюбленных, не будем забывать, что рождением этих шедевров мы обязаны Паганини.
Ранят все, а последний убивает.
Надпись на циферблате старинных башенных часов
Спустя несколько дней после концерта Берлиоза Паганини смог наконец покинуть Париж.
«Я откладывал свой отъезд из Парижа, – писал он Джерми из Марселя 17 февраля, – из-за обмана одного негодяя, одного дельца, который уверял королевского прокурора, будто я задумал убить его у себя дома с помощью каких-то четырех вооруженных мужчин. Так что выслушивание показаний различных свидетелей заняло почти два месяца, и я не мог уехать. Затем обвинение, как и следовало ожидать, сняли».
Это оказался еще один вероломный удар банды обманщиков из «Казино».
В Марселе климат, похоже, пошел на пользу больному скрипачу. Он остановился в доме своего друга, господина Брюна, и там смог снова с радостью отдаться любимой музыке – квартетам.
Здесь скрипач сблизился с Хосе Галофре из Барселоны, к которому питал живейшую симпатию, даже дал ему несколько уроков и исполнил для него Каприччи.
Конестабиле рассказывает, что больной Паганини сидел на диване в комнате, полной различных инструментов, нот и лекарств. Акилле подавал ему инструменты, и музыкант то перебирал струны французской гитары, то играл на своем любимейшем Гварнери какую-нибудь веселую или грустную мелодию, волновавшую слушателей. Иногда играл квартеты Бетховена, и Галофре говорит о непревзойденном исполнении, несмотря на то, что болезни уже непоправимо подорвали здоровье скрипача.
«Галофре, – пишет Конестабиле, – рассказывал мне, что в последние месяцы жизни Паганини так исхудал, что на него больно было смотреть. Очевидно было, как сильно подтачивала его коварная болезнь».
26 января 1839 года Никколó писал Джерми:
«Мой друг Брюн весьма рад, что завоевал твое уважение и хотел бы, как и я, чтобы ты приехал в Марсель недели на две; ты жил бы рядом со мной, и мы сыграли бы тебе последние квартеты Бетховена».
Другой заботой скрипача в этот последний период жизни стало приобретение инструментов. Он часто писал об этом Джерми, Мигоне и сумел собрать великолепную коллекцию драгоценных скрипок, альтов и виолончелей.[198]
Он почувствовал себя немного получше, но уже 3 февраля снова жаловался Джерми:
«Я все еще не могу поправиться. Расстройство желудка, ревматизм, сильная слабость в коленях немало огорчают меня».
А 17 февраля в письме из Марселя просил Джерми собрать разные инструменты, которые он оставил в различных концах Италии, и прислать ему. Он хотел видеть у себя всех своих старых друзей, чтобы присоединить к тем, которые приобрел недавно.
«…Хорошо, если бы ты приехал в конце марта и провел бы с нами недели две, мы опробуем виолончели, ты увидишь их различие и изумишься моему Страдивари. Твой Гварнери издает звук не такой, какой должен, но это отчасти может зависеть от душки и мостика, и попробуем поменять их.
У Карли находится мой альт Амати, и я хотел бы, чтобы ты прислал мне его, как и виолончель Гварнери, которую мне подарил Мильцетти в Болонье. Забери из Пармы мой альт Страдивари и вместе с виолончелью Амати, если, разумеется, она не нужна тебе, перешли вместе со скрипками Страдивари и Андреа Гварнери в Марсель».
В тревожном, беспокойном постскриптуме этого письма от 8 апреля 1839 года к Джерми он добавляет:
«Скрипка, которую я обнаружил на месте Андреа Гварнери, это та, что дал мне генерал Пино и в которой я сейчас увидел работу Джузеппе Гварнери дель Джезу. Но что стало с моим Андреа? В Парме она или у Карли?.. В Парме должна быть скрипка Вильома – копия с моей; и не помню, забрал ли я у Карли вышеупомянутого Андреа. Если знаешь что-нибудь об этом, сообщи, чтобы я не спрашивал у Карли напрасно. Прощай».
19 марта ему стало значительно хуже.
«Я подвержен, – писал Никколó, – приступам, из-за которых вот уже шесть дней и шесть ночей не могу спать. И нет пока еще ни малейшего облегчения. Все время страдаю, очень ослабел, настолько, что не могу заняться инструментовкой своих сочинений для Лондона… Надеюсь, однако, что весна придет мне на помощь…»
Так что к другим бедам прибавилась еще и бессонница. Теперь он не получал, как когда-то, отдохновения в глубоком сне, приносившем ему некоторое облегчение. Среди всех этих бед он заботился не только о занятиях Акилле, которого поместил в марсельский коллеж, но и о своих племянниках, которым хотел дать образование за свой счет.