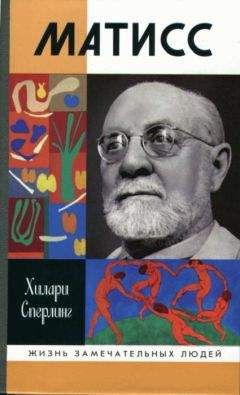Он ждал новостей из дома, звал жену и скучал по ней. Но всякий раз планы вернуться в Париж, чтобы повидаться с семьей или появиться на ежегодной персональной выставке в галерее Бернхем-Жён, срывались. В результате он пропустил пять выставок подряд. Картины, которые он отправлял в Париж (в основном фрукты, цветы и обнаженные в интерьерах), создавали впечатление легкости и комфорта — именно так их и воспринимали зрители до конца его жизни и еще много лет спустя. Но самому художнику этот «новый старт» в Ницце дался гораздо мучительнее, чем его трудное «начало пути» тридцатилетней давности. Чем щедрее вознаграждала его живопись, тем унылее становилось его существование в «нерабочее время»; для компании он даже купил себе пару красных рыбок. Матисс писал весь день, с трудом заставляя себя прерваться на скромный ланч, состоявший из холодной ветчины или крутых яиц, и одинокий обед в соседнем кафе. Вечерами он писал письма. В первую зиму житья на площади Шарль-Феликс в Ницце установилась необычайно холодная погода, и в начале декабря выпало много снега. Матисс купил деревянные сабо и попросил прислать из дома одеяла и пальто. Он мерз по ночам, но все равно прекращал топить печь из опасения, что пришедшая утром натурщица может отравиться угарным газом.
Он был настолько поглощен живописью, что годами не замечал Рождества («Для меня это был день, подобный другим») и почти не обращал внимания на свои дни рождения («Через двадцать четыре часа мне исполнится пятьдесят два, — сделал он взволнованную приписку к письму Маргерит 30 декабря 1921 года, — уже пятьдесят два!!!»). Иногда он все-таки выкраивал время, чтобы побыть на праздновании Нового года, которое устраивали молодые Ренуары, но чаще даже в такие вечера ужинал один, писал письма и рано ложился спать. Одним холодным зимним вечером он нарисовал себя похожим на «волшебника в отставке» — в полосатом шерстяном халате, клетчатых войлочных тапочках, со свисающими с носа очками и в нелепом, похожем на колбасу ночном колпаке из кроличьего Меха, в котором его не узнают даже собственные рыбки.
Его немногочисленные друзья, нашедшие убежище в Ницце, были в каком-то смысле такими же беглецами, как и он: писатель Жюль Ромен, супруги Халворсен, художники Бюсси и Боннар. Обеды в их кругу предоставляли Матиссу единственную возможность оказаться в женском обществе помимо собственной мастерской. Впервые в жизни так надолго оставшись в одиночестве, Матисс решительно поменял распорядок дня. Любивший прежде поздно вставать, хорошо поесть и изредка прогуляться на свежем воздухе, после пятидесяти он придерживался строгого режима: заставлял себя вставать в шесть, плавать перед завтраком и работать до обеда. Он даже рискнул присоединиться к соседу художнику, американцу Чарльзу Торн-дайку, который регулярно захаживал в бордели (прежде, когда его настойчиво приглашал туда Марке, он категорически отказывался). Позже он рассказывал Лидии Делекторской, что сделался их постоянным посетителем («Откровенно говоря, там было не особенно забавно и всегда одинаково») как раз в те годы, когда Анриетта позировала ему, но относился к этим походам без всякого энтузиазма («Надо же, я забыл сходить в бордель!» — вспоминал он). Делал он это в прагматическом французском духе, когда сексом занимаются без лирических ритуалов ухаживания или влюбленности, относясь к этому как к физическому занятию, не более романтичному, чем любое другое. Жюлю Ромену (собиравшемуся расстаться с женой и жениться снова) он порекомендовал воздержание, чем немало того озадачил.
Режим работы Матисса был тяжелым испытанием и для Анриетты. Она проводила в мастерской почти всю неделю, позируя каждый день, кроме воскресенья, с двухчасовым перерывом на ланч (как раз тогда, когда всё в городе закрывалось, и Матисс переживал, что «она не могла даже пройтись по магазинам»). Она выполняла небольшие поручения, мыла кисти и подавала чай. Это было подобие рабства, но в то же время и ученичество. Как и у Арну, у нее был любовник, образованный юноша из среднего класса, с которым она сошлась за год до начала работы у Матисса. Она долго скрывала свою связь от родителей, но когда те узнали, то были возмущены — не столько наличием любовника, сколько его буржуазным происхождением, что им, рабочим с Севера, казалось оскорбительным. Матисс выводил ее в свет, брал с собой на прогулки на автомобиле или в оперу в Монте-Карло. Она сопровождала Амели в походах по магазинам. Маргерит посылала ей посылки с нарядами, Пьер и Жан расспрашивали о ней в письмах, а сам Матисс пел с ней дуэтом, если их работа шла успешно. Когда она заболела, он сам отвел ее к врачу, у которого, как оказалось, она побывала впервые в жизни. Родившаяся в 1901 году и бывшая на год моложе Пьера, Анриетта в некотором смысле стала играть роль дочери Матиссов и была безмерно благодарна им за тепло и заботу. «Как же приятно видеть счастливую семью вроде вашей!» — сказала она Маргерит в 1922 году.
Постепенно квартира в Ницце полностью превратилась в мастерскую, и Матиссу пришлось снять номер в отеле за углом. Живопись, как и прежде, оставалась стержнем, вокруг которого вращалась жизнь всей семьи. Картины утешали Марго во время болезни и поднимали настроение Амели в минуты депрессии; прибытие весной из Ниццы новой партии картин для очередной выставки у Бернхемов вызвало в Исси невероятное возбуждение. В ритуале вскрытия ящиков, расправления холстов, помещения их в рамы, развешивания и последующего обсуждения участвовала вся семья. Длившаяся всего несколько дней (до прихода галеристов) семейная выставка была главным событием года. Хотя сам Матисс появлялся в Исси очень редко, казалось, что он постоянно незримо присутствует в доме. Именно это и являлось главной причиной, заставившей художника скрыться в Ницце. «Ничего не поделаешь, нужно жить и работать, чтобы стать реальной силой, с которой нельзя будет не считаться, — писал он, когда жена и дочь жаловались на недоброжелательство к нему в художественной среде. — Сегодня ты великий гений, завтра они будут презирать тебя — это вполне естественно… У нас прекрасная коллекция картин, я работаю смело и независимо, мои полотна ценятся на рынке, и меня знают даже те, кто ничего не смыслит в живописи… Мы — одна из редких больших семей, живущая в согласии, — разве этого недостаточно, чтобы вызывать у людей зависть и ревность?»
Глава вторая.
СТАРЫЙ ЗАТВОРНИК.
1923–1928
В начале 1920-х годов отношение к Матиссу стало довольно странным: творчество ни одного художника его уровня никогда не вызывало столь прямо противоположных реакций. Накануне войны он пишет картины на грани абстракции, шокирующие современников отсутствием какого-либо смысла, а после войны ударяется в совершенно иную крайность и делается коммерчески невероятно успешным. Выставленные в 1921 году в нью-йоркском Метрополитен-музее картины Матисса клеймят как «патологические». А год спустя, когда Институт изящных искусств Детройта приобретает одну из подобных работ, разражается такой скандал, что музею приходится публично оправдываться за свою покупку. «Он сдался и успокоился — публика на его стороне», — с возмущением пишет Синьяку Самба в 1922 году, когда государство покупает у Матисса «Одалиску в красных шароварах»[186]. Живопись подобного рода чужда и непонятна бывшим почитателям художника. Все как один они называют написанные в Ницце картины банальными и пустыми. Марсель Самба, разразившийся в 1913 году панегириком в адрес «Арабской кофейни» и других щукинских картин, отрекается от Матисса, хотя и посвящает ему целую монографию[187].