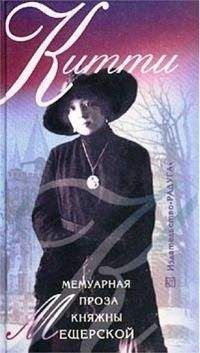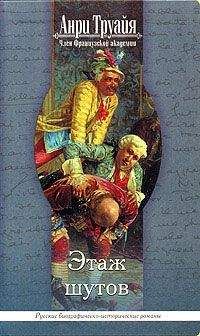Мне хотелось пройти на могилы наших слуг, и для этого пришлось пережидать долгие часы воскресной обедни. Меня могли узнать кое-кто из крестьян, и эти свидания заняли бы у меня слишком много времени. Поэтому мы подошли к церкви, когда обедня уже отошла и народ разошелся. Опустело и кладбище.
Эти могилы я посещала при каждом моем приезде, хотя из всех умерших я знала только одну нашу неоцененную, дорогую Парашеньку, чью могилу я считала своей родной. Случайно обернувшись, я посмотрела на Жильбера и была поражена тем, как он вдруг мгновенно изменился. Медленно следуя за мной, он снял с головы шляпу, и на лице его лежало выражение такой глубокой скорби и такого проникновенного благоговения, что казалось, он следует за гробом дорогого ему человека.
Увидя, что я обернулась к нему, он взял меня за руку и нетерпеливо спросил:
— Где же его могила?
— Чья? — удивилась я.
— Твоего отца…
Тогда мне пришлось рассказать ему о глупейшей (с моей точки зрения) аристократической традиции: хоронить умерших только в их родовом (майоратном) имении. А так как таковое перешло старшему сыну в роду, то мама от всех наших трех имений должна была везти умершего мужа в майорат Мещерских — Лотошино, Волоколамского уезда, принадлежавшее старшему брату отца Борису и доставшееся в те дни сыну Бориса Сергею Борисовичу Мещерскому. Мы были лишены права похоронить папу у себя в имении и иметь его могилу вблизи.
В те дни, когда мы встретились с Жильбером, Лотошино было сметено с лица земли. Усыпальница Мещерских была взорвана, и все их останки, в том числе и моего отца, были выкинуты и разбросаны.
Днем мы вернулись к Ольге в ее домик, где нас ожидал обед и воскресные пироги. Пообедав, мы снова отправились гулять; на этот раз мы пересекли линию железной дороги и вошли в леса Покровского. На обратном пути с нами произошел смешной случай. Сытный обед и пироги возбудили в нас сильную жажду. Из реки пить воду мы побоялись. До Петровского было еще далеко. Тогда мы зашли в одну из железнодорожных будок, стоявших по пути от Алабина к Апрелевке.
Встретить знакомых в ней я не боялась, так как среди железнодорожников редко попадались крестьяне, это были больше люди приезжие. Однако едва я, войдя в домик будочника, попросила продать нам крынку молока, как жена железнодорожника, все пристальнее и пристальнее всматриваясь в меня, вдруг припала со слезами на мое плечо.
— И-и-и-и… батюшки-и-и-и! — заголосила она. — Привел мне Господь тебя, горемычную, увидеть!.. Я за твою матушку, упокойницу княгиню, денно и нощно молюсь: упокой ее, нашу матушку благодетельницу, на том свете…
Жильбера это зрелище потрясло и произвело на него самое удручающее впечатление. Долго я никак не могла разобраться в плаче надо мной доброй женщины, которая так усердно молилась о упокоении моей живой матери…
Наконец выяснилось, что в Апрелевке уже давно разнесся слух, будто мама, собирая милостыню на паперти церквей, умерла от голода, а я живу и зарабатываю себе на пропитание тем, что хожу по московским рынкам и гадаю по Библии (?!)…
Долго я утешала бедную булочницу и рассказывала ей, что мы с мамой живем совсем не плохо и что эти сплетни не соответствуют действительности. Но, помимо этого, ее, по-моему, убедило в истине моих слов то, что одета я была не хуже всех остальных людей, и тогда, улыбаясь сквозь слезы, она радостно перекрестилась на угол своей комнатки, где у нее были повешены образа.
Пока мы с Жильбером пили молоко, она все время вспоминала маму, старое время и многие добрые дела, какие мама никогда не уставала делать. За молоко она ни за что не хотела взять денег, и я незаметно для нее сунула их ей на комод. Мы ушли, напутствуемые ее добропожеланиями.
Поднимаясь вверх по косогору на линию железной дороги, я на прощание долго еще махала ей рукой и видела, как она, стоя на пороге своей будки, издали крестила нас.
Поздним вечером мы возвратились к Ольге, чтобы, попрощавшись, взять наши вещи и отправиться на вокзал в обратный путь. Уловив минуту, когда мы с Ольгой остались наедине, она растрогала и насмешила меня в одно и то же время.
— Хорошо, что покойный князь, ваш отец, до этого дня не дожил! — сказала она. — А то как бы огорчился!.. Уж как он иностранцев не любил, ведь с ума сходил, когда дочь его за итальянского герцога выходила. А вы вот тоже невесть что придумали… — Потом, вздохнув, она добавила: — Уж конечно, ничего не скажешь, орел-то он орел, и всем он взял, только одно в нем плохо… не русский!..
На этот раз мы попали не в малоярославский поезд (дальнего следования), а в нарский, и в вагонах было совсем просторно: мало кто из Нары в такой поздний час ехал в Москву. Вагон освещался плохо. За окном проплывали синие сумерки весеннего позднего вечера. Тянулись поля, склоняясь верхушками, кивали деревья густых лесов, извилистыми очертаниями протягивались далекие холмы, и в быстром беге поезда живым клубком свивались и тут же расползались в разные стороны проезжие дороги, а звезды были разбросаны по небу мелкими золотистыми блестками.
Прислонившись к плечу Жильбера, я находилась во власти сладкой полудремы; сознавая все происходящее вокруг, я в то же время не выходила из какого-то волшебного оцепенения.
— Ах, — говорил Жильбер, сжимая мою руку, — когда же наконец мы будем вместе? И почему мне так долго задерживают ответ в Наркоминделе?.. Эта медленность так мучительна, и я, кажется, начинаю терять терпение… Когда же наконец, когда мы будем вместе?..
Конец мая мы с Жильбером виделись хотя и каждый день, но свидания наши бывали урывками, оба мы за день очень уставали. Жильбер был занят завершением спроектированной им модели нового подъемного крана, я спешила закончить все дела, касавшиеся Староконюшенного переулка. Хотелось, чтобы хотя первые два-три месяца моей новой жизни не были загружены вечными хлопотами.
Надо было обойти все те комиссионные магазины, куда мама сдала наши вещи, получить деньги за проданные, а непроданные вещи сдать снова на комиссию.
Очень много надо было сделать для Димы. Я заканчивала для него перевод немецкого технического учебника и должна была составить целую библиотеку инструктирующих пластинок к изобретенному им аппарату. Все они предназначались Мострикотажем для экспорта в Германию; делала я их на немецком языке старым готическим шрифтом. Ассортимент вязаных вещей был огромным, так как Дима по собственной инициативе (принятой Союзом) проводил стандартизацию всего трикотажа.
В самом начале июня Жильберу предложили в связи с поданным им проектом выехать на несколько дней в Горький. Нам предстояла разлука на какую-нибудь неделю, но она испугала нас обоих. Мое сердце сжалось страшным предчувствием, и я готова была отбросить все условности и поехать вместе с Жильбером в качестве его жены, даже без официального оформления нашего брака. Мне казалось, что Жильбер сам хотел просить меня об этом, оба мы были измучены бумажной волокитой в Наркоминделе, оба тосковали друг по другу, кроме того, обоим было почему-то очень страшно расстаться хотя бы на неделю, но… воспитание Жильбера, привитые ему с детства понятия, то коленопреклонение перед браком, которое он испытывал, не позволили ему обмолвиться хотя бы одним словом о его желании. Он боялся оскорбить меня своим нетерпением.