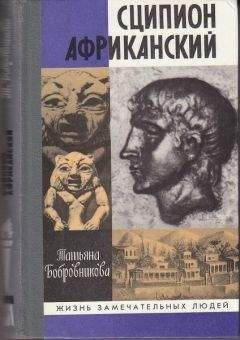Мы уже упоминали, что Катон в своей неутомимой погоне за прибылью занимался работорговлей. Более того, он советовал продавать состарившихся рабов, чтобы не кормить дармоедов. Этот бездушный совет вызывает глубокое возмущение у его биографа Плутарха.
«Мне то, что он, выжав из рабов, словно из вьючного скота, все соки, к старости выгонял их вон и продавал, мне это кажется признаком нрава слишком крутого и жестокого, не признающего никаких иных связей между людьми, кроме корыстных. А между тем мы видим, что доброта простирается шире, чем справедливость… Человеку порядочному приличествует доставлять пропитание обессилевшим от работы коням и не только вскармливать щенков, но и печься об одряхлевших псах… Нельзя обращаться с живыми существами так же, как с сандальями и горшками, которые выбрасывают, когда они от долгой службы прохудятся и придут в негодность, и если уж не по какой иной причине, то хотя бы в интересах человеколюбия должно обходиться с ними мягко и ласково. Сам я не то что одряхлевшего человека, но даже старого вола не продал бы, лишая его земли, на которой он воспитывался, и привычного образа жизни и ради ничтожного барыша словно отправляя его в изгнание, когда он уже одинаково не нужен ни покупателю, ни продавцу. А Катон, точно бахвалясь, рассказывает, что даже коня, на котором он ездил, исполняя обязанности консула и полководца, он оставил в Испании, не желая обременять государство расходами на перевозку его через море. Следует ли приписать это величию души или скаредности — пусть каждый судит по собственному убеждению» (Plut. Cat. mai., 5).
Так писал Плутарх. Но Плутарх — грек, живший к тому же через много лет после Катона. А как расценивали слова Порция его современники-римляне? Неужели никого из них не возмущало столь жестокое отношение к домашним? К сожалению, здесь перед нами встает непреодолимая трудность. Из всех многочисленных речей, сочинений, даже памфлетов, написанных против Порция, не дошло ни строчки. Мы стоим перед пустотой. И так как мы не знаем, что возражали ему все эти сенаторы, полководцы, ораторы, у нас легко может создаться впечатление, что Рим молча одобрял его жестокие советы. К счастью, до нас дошли произведения еще одного современника Катона, Плавта.
Но можно ли серьезно назвать этого бродячего актера оппонентом великого гражданина, консуляра и цензория? Не следует забывать, что римский театр времен Плавта сильно отличался от афинского эпохи Аристофана. В те времена театральные игры были великим всенародным празднеством очищения. Поэт почитался учителем взрослых людей, и Эсхил у Аристофана прямо требует у своего преемника Еврипида отчета о нравственном состоянии Афин. Но времена изменились. На смену политической комедии пришла Менандрова комедия нравов. Там действовали скряги и франты, гетеры и сводники, честные женщины и влюбленные юноши. Вся интрига строилась на похищении девиц из публичного дома, на ловком обмане старого скряги, подкинутых и после найденных детях. В заключение зрителям, правда, непременно преподносилась довольно тощая мораль. Эти-то сюжеты и переделывал Плавт.
Человек с неиссякаемым юмором и буйной фантазией, он развертывает перед зрителем картины одну нелепее и чудовищнее другой, вовсе не заботясь о достоверности и вероятии. Его странные и подчас уродливые фигуры вихрем проносятся мимо нас по сцене, как карнавальные маски Корсо. Плавт совсем отбросил постную мораль эллинистической комедии, превратив ее в вихрь масок, плащей и бурю смеха.
Но есть у него одна особая, ни на что не похожая пьеса. Называется она «Пленники». Он сам выделяет ее из остальных. В прологе он объявляет: «Для вас будет очень полезно уделить внимание этой пьесе. Она написана необычно, совсем не так, как остальные. Здесь нет непристойных стихов, которые потом нельзя повторить. Здесь нет бесчестного сводника, злой куртизанки и хвастливого воина» (Plaut. Capt., 54–58). Эпилог объясняет смысл этой необычной пьесы: «Зрители, наша пьеса написана для очищения нравов. Здесь нет ни любви, ни интриг, ни подкинутого ребенка, ни мошенничеств с деньгами, ни влюбленного юноши, который тайком от отца выкупает потаскушку». Как видим, Плавт кратко и с насмешливым презрением перечисляет сюжеты эллинистических комедий. Зачем же написана эта столь необычная пьеса? Автор объясняет: «Поэты мало пишут таких пьес, чтобы хорошие люди стали еще лучше» (ibid., 1033–1034).
Итак, это редкая пьеса, призванная не повеселить сограждан, а исправить их и наставить на путь истинный. Это ставит комедию в один ряд с аристофановскими, ибо единственный раз Плавт предстает перед нами в роли «учителя взрослых». Чему же он их учит? Вспомнив другие комедии, где есть жалобы на дурные нравы, мы могли бы предположить, что Плавт учит молодежь слушаться старших, не мотать деньги, ходить на Форум и т. д. Ничего подобного. Об этом и речи нет в нашей пьесе. Сюжет ее таков.
Некий Гегион, человек во всех отношениях почтенный и уважаемый согражданами, имел двух сыновей. Старшего похитили еще ребенком. Несчастный отец всю любовь сосредоточил на меньшем, в котором души не чаял. Но вот началась война, и его любимец попал в плен к неприятелю. Отец буквально обезумел от горя — вообще Гегион, человек больших страстей, не знающий меры ни в любви, ни в гневе, ни в горе, ни в радости. И вот он пошел на дело неслыханное: стал скупать пленных в надежде найти какого-нибудь знатного человека, которого можно было бы выменять на сына. Один из героев говорит по этому поводу: «Как я взгляну на этот дом, каждый раз плачу: ведь он ради сына взялся за бесчестный и совершенно чуждый его характеру промысел — он покупает пленных… Мне больно, что несчастный старик с горя по сыну взялся за ремесло тюремщика» (Capt., 97—100, 129–130).
Среди очередной партии пленных попадают в руки Гегиона два молодых человека. Когда их выводят на сцену в наручниках, кандалах, с железными ошейниками на шее, то вид у этих несчастных, столь юных, столь преданных друг другу, вчера еще счастливых и свободных, а ныне жалких рабов вызывает сочувствие у самого надсмотрщика. Тронут и Гегион. Он не может глядеть на них без слез и немедленно приказывает снять с них цепи. Видя, что это образованные юноши и хорошего круга, он спешит объяснить им, зачем он взялся за мерзкое ремесло, дабы они не приняли его за профессионального работорговца.
— Я вовсе не считаю, что всякая прибыль полезна человеку, — говорит он, — многих людей прибыль запятнала. Иногда даже ущерб бывает лучше прибыли. Я ненавижу деньги: слишком многих соблазняли они на зло. Теперь послушайте внимательно, чтобы хорошо понять мои чувства. Мой сын там у вас, в Элиде, раб и пленник. Верни мне его, и я отпущу и тебя, и вот его даром, и не возьму с вас ни гроша (Capt., 325–332).