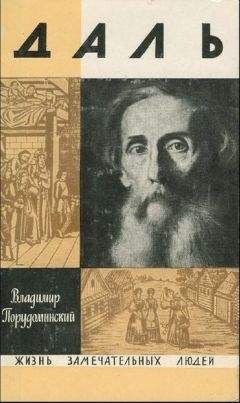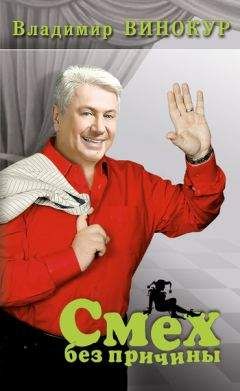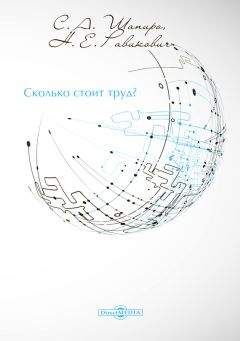В связи с высочайшим указом о разрешении удельным крестьянам лично подавать просьбы и ходатайствовать по своим делам, губернское правление отказало Далю в праве заступаться за крестьян, вести за них дела.
Попытка Даля «остановить произвол» была «признана оскорблением и превышением власти»; Даль получил замечание от министра.
1
Еще весной 1859 года Даль долго сочинял прошение — марал лист за листом, выбирал слова: «По болезненному состоянию моему, осмеливаюсь испрашивать милостивого разрешения на двухмесячный отпуск для отдыха и пользования кумызом. Если попытка эта не принесет мне пользы, то сочту долгом, для пользы службы…»[104] Но в те же дни он счел долгом и для пользы службы сочинил письмо губернатору — грубиян Даль:
«Много времени тому назад я говорил Вам, что, противуборствуя неправде без всякой самонадеянности, не могу выйти из этой отчаянной борьбы победителем, но что обязан свято исполнить долг свой…
Дело сталось! Я побежден в конце и изгнан — но не завидую славе победителя. Не верьте льстецам, которые будут оправдывать перед Вами дело это — и не верьте словам своим, если станете, в свое утешенье, ободрять таких людей: это будут одни слова, одни звуки, а за самое дело неминуемо будет корить совесть.
Не верьте и тому, будто Вы изгоняете меня за грубость мою: это один предлог. Всякая правда груба: это не прямой луч, а кривая рогатина, которой друг не боится, а боится недруг.
Притом здесь следствие берется за причину: дело не началось грубостью, а кончилось ею.
Чиновники Ваши и полиция делают, что хотят, любимцы и опричники не судимы. Произвол и беззаконие господствуют нагло, гласно. Ни одно следствие не производится без посторонних видов, и всегда его гнут на сторону неправды. В таких руках закон — дышло: куда хочешь, туда и воротишь…
Вот почему прямым, честным и добросовестным людям служить нельзя. Их скоро не будет при Вас ни одного… Не верьте, чтобы кто-нибудь прославлял Вас за такие подвиги; самые негодные люди, радуясь этому, не менее того понимают, что добросовестность и справедливость идут в ссылку, а самочинность и беззаконие торжествуют.
Но судить нас будут не родные братья наши, в каких бы ни были они высоких званиях, а рассудит нас народ…»
2
Он опять про эти тридцать семь тысяч. С приездом Даля удельным крестьянам Нижегородской губернии стало казаться, будто где-то есть правда. Они приходили в Нижний со всех концов губернии — обманутые, обобранные, ни за что побитые, — терпеливо дожидались господина управляющего удельной конторою и долго, коряво жаловались, что становой («грабитель») ни с того ни с сего велел принести трешницу («А где ее взять?»), что исправник («пьяница») избил мужика до полусмерти, что приезжали в село власти и с ними какие-то люди, набрали у крестьян разного товару, а потом денег не отдали и еще грозились в Сибирь загнать. Даль слушал терпеливо, не перебивал — разве что, проверяя себя, вдруг угадывал: «Макарьевского уезда?» или «С Ветлуги, что ли?» Мужики разводили руками: откуда такое ведомо? А Даль посмеивался — он знал, что в Макарьевском уезде по-особому мягко цокают, а на Ветлуге говорят протяжно, напевно, необычно растягивая иные слоги. «Окажи милость, ваше превосходительство», — но Даль-то знал, сколько трудов надо положить, чтобы выполнить самую пустячную мужицкую просьбу…
Можно красиво рассказать про нижегородскую службу Даля — про больницу, построенную им для удельных крестьян, про училище для крестьянских девочек, про беседы с мужиками, про объезды имений, главное — про «полтины» и «подводы»…
Его превосходительство влезает в тряскую колымагу; не глядя на зной и стужу, тащится по уездам, чтобы возвратить Татьяне четыре десятины земли, Ивану — рублевку, Василию — вязанку дров.
От медицины Даль тоже не мог убежать: врачей почти не было, а болезни знай себе глодали деревни. К управляющему удельной конторой шли лечиться — Даль накладывал повязки, рвал зубы, вскрывал нарывы, иногда даже серьезно оперировал. Он приходил в темную душную избу, чтобы дать лекарство ребенку, бредившему от жара, или мужику, измученному лихорадкой.
Бабы просили: «Я-то что! Не дай погибнуть, благодетель, — коровенку вылечи». Даль читал ветеринарные справочники, в деревнях ходил по хлевам, по конюшням. Мужик, заглядывая ему через плечо, толковал соседу: «Видал, как с жеребенком-то управляется? А говорит — не деревенский!» Он был врач, да вот беда — от нищеты и неправды, от голода и холода у него лекарств не имелось.
Можно обойтись и без «картинок», ограничиться скупыми — но о том же — строками воспоминаний. Дочери Даля, Марии Владимировны: «…Всякий шел к нему со своей заботой: кто за лекарством, кто за советом, кто с жалобой на соседа, даже бабы нередко являлись в город жаловаться на непослушных сыновей. И всем им был совет, всем была помощь. И долго-долго после отъезда Владимира Ивановича в Москву крестьяне посылали ему поклоны…» Опять же Мельникова: «И до всякого-то, братцы, до крестьянского дела какой он доточный», — говаривали про своего управляющего крестьяне[105]. «Там борону починил, да так, что нашему брату и не вздумать, там научил, как сделать, чтобы с окон зимой не текло, да угару в избе не было, там лошадь крупинками своими вылечил, а лошадь такая уж была, что хоть в овраг тащи»[106].
Но это все «крупинки». В борьбе, которую Даль, по собственным его словам, вел «день и ночь, до последнего вздоха», «крупинки» — слабое оружие. Принцип гомеопатии — лечить подобное подобным, только иными дозами, — при социальных болезнях мало подходящ: нужна хирургия.
3
Осенью 1859 года Владимир Иванович Даль «уволен, согласно прошению, за болезнию, в отставку, с мундирным полукафтаном». Был чин действительного статского советника, ордена и медальки кое-какие, а в общем-то, служил сто лет, выслужил сто реп. В самом деле, за спиной флот, турецкая война, Оренбург, Петербург, Нижний, литература, статьи, пословицы, этнография, проекты, служебные поездки, высочайшее неудовольствие, естественное отделение Академии наук, Географическое общество, друзья — Пушкин и Жуковский, Пирогов и Нахимов, — другому на две жизни, а все еще вроде бы не наш Даль, все вроде бы: «Век мой позади, век мой впереди, а на руке ничего нет».
Но на руке уже половина «Толкового словаря». Главное дело Даля еще не завершено, еще для всех не явно — в этом смысле век его впереди. Впереди у него бесконечно долгий век. Возле дома на углу Большой Печерской и Мартыновской грузят подводы, бывший хозяин собирается в Москву — последний переезд. «Служить больше нельзя», — сообщал он приятелю об отставке. В сказках герой строит за ночь город, пашет поле, сеет пшеницу и хлеб убирает, — потом оказывается, что все это службишка — не служба. Служба — изловить жар-птицу, обрести вечную молодость.