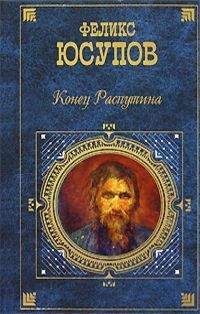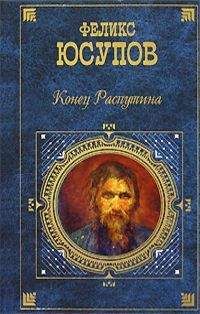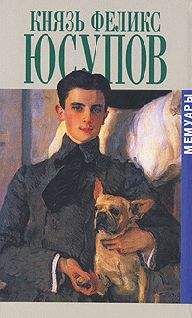Мы предложили помочь Маше, но магазины, оказалось, были закрыты. Еле-еле удалось достать хлеб и сахар.
Страдали люди – страдали, стало быть, и звери. Боже, как выли и плакали брошенные собаки и кошки. Тут и там вспархивали то попугай, то канарейка. Они сами шли в руки. Так мы поймали нескольких и раздали их на житье по знакомым.
Парижане бедствовали невероятно. Среди них немало было русских. Иные, печась об охране своего жилища, устраивались жить в пустой привратницкой.
Сдадут столицу или нет? Неизвестность мучила.
14 июня немцы вошли в Париж. Мы видели, как шли они Сен-Клускими воротами. Рядом многие прохожие плакали, да и у нас текли слезы. За двадцать лет Франция стала нам второй родиной.
Как только объявлено было о перемирии, оккупационные власти закрыли все русские предприятия. Безработных прибавилось. Эмигрантам без средств пришлось просить работу. А работодатель был один – немец. И русские тем самым нажили себе новых врагов: французов.
Но жизнь, хорошо ли, плохо ли, налаживалась. Разбежавшееся население возвращалось по домам. Собрались и мы восвояси и в конце июля вернулись в Сарсель. Вскоре к нам пожаловали немецкие офицеры. Арестовать, решили мы. Ан нет, наоборот, проявить заботу! Спросили, не надо ли чего. Предложили бензин, уголь, продукты. Мы сказали – спасибо, у нас все есть. Странная забота удивила нас. Позже, однако, поняли мы, в чем дело.
Во времена самого крайнего нашего безденежья мы, опасаясь, что кредиторы доберутся до «Перегрины», вверили ее директору английского Вестминстерского банка, просив положить ее в его личный сейф в Париже. Сложности возникли, когда в 1940 году немцы устроили ревизию сейфов, принадлежавших английским подданным. Меня как вкладчика администрация банка вызвала присутствовать. Я подумал: заберу свое добро, да и все. Но управляющий сказал, что правят бал немцы, а немцы – что банк. Обе стороны уперлись. Ни тпру ни ну. Волнуясь за «Перегрину», я пошел к самому ревизору. Принял меня молодой, вежливый, щеголеватый чиновник. Я изложил дело, чиновник обещал все устроить. Провел меня в соседнюю с кабинетом комнату-приемную. Через несколько минут вошел офицер. Его слащавая любезность и кошачий взгляд сразу мне не понравились.
– Мы счастливы служить вам, – осклабился он. – Жемчужину свою вы получите. Но услуга за услугу. Про вас нам все известно. Согласитесь стать нашим, так сказать, светским агентом – получите один из лучших парижских особняков. Будете жить там с княгиней и давать приемы. Счет в банке вас ждет. Кого приглашать, мы скажем.
Каков вопрос, таков ответ. Дал я понять молодцу, что обратился он не по адресу.
– Ни жена моя, ни я ни за что не пойдем мы на это. Уж лучше потерять «Перегрину».
Я встал и пошел было к двери, но тут офицер подскочил и с жаром пожал мне руку!
Но и только. Жемчужину мне вернули лишь три с половиной года спустя, уже после ухода немцев.
В годы оккупации нас не раз приглашали на званые вечера немецкие высокопоставленные лица, но принимали мы приглашения с большим скрипом. Немцы, однако ж, нам доверяли. И потому смогли мы спасти некоторых людей от тюрьмы и концлагеря.
Однажды я повстречал Валери, которую не видал уже вечность. Жила она по-прежнему на барже. Пригласила нас ужинать. К своему удивлению, в гостях у нее застали мы немцев. Немцы, должен сказать, были все прекрасно воспитаны, даже симпатичны, а те, кого знал лично я в годы оккупации, ненавидели Гитлера. Все же не след было француженке звать их к себе. Но повадилась Валери по воду ходить, там и голову сложила.
Летом жить в Сарселе было еще туда-сюда. Овощи свои, а в саду небывалый урожай абрикосов. У местного Феликс-Потэна мы выменивали их на хлеб, соль, сахар. Но с первыми холодами в деревне без отопления стало невмочь. В ноябре мы вернулись в Париж.
Прожили несколько месяцев в меблированных комнатах на улице Агар, одной из немногих, где топили. Была у нас даже неслыханная роскошь – горячая ванна дважды в неделю. В эти «банные» дни приходили к нам на помывку «безводные» друзья. Сидели в гостиной с узелками и терпеливо ждали очереди. Потом обедали в складчину.
Позже я нанял помещение на улице Лафонтен, и там прожили мы год. Помещение было огромно, напоминало ангар. К счастью, водил я дружбу с парижскими антикварами. Все – евреи, все жаждут отдать сокровища на хранение в надежный дом, подальше от немцев. Так что пожили мы с год как в музее.
Однажды некий итальянский художник, с которым знаком я был шапочно, пришел сосватать меня с немцем, прибывшим от Гитлера. Этот желал поговорить со мной о будущем моей родины. Отчего ж не поговорить? Но посланца фюрера к себе не позову и к нему не пойду. На нейтральной территории – это пожалуй. Условились пообедать втроем в отдельном кабинете в ресторане на бульваре Мадлен.
Через немца, стало быть, фюрер сообщал мне, что намерен уничтожить большевиков и восстановить в России монархию. Посланец спросил, заинтересован ли я в том лично? Я посоветовал обратиться к Романовым. Они проживали в Париже, я дал адреса и фамилии. Посланец спросил, что я думаю о евреях. Я признался, что евреев не люблю. Сказал, что и стране моей, и мне сослужили они плохую службу и что, уверен, революции и войны случились по их милости. Но осуждать огулом, сказал я, – абсурд.
– И уж во всяком случае, – добавил я под конец, – нельзя обращаться с ними так, как вы. А еще цивилизованная нация!
– Но ведь фюрер это делает для всеобщего блага! – вскричал немец. – Вот увидите, скоро он очистит мир от жидовской чумы!
Спорить было бессмысленно. «Чистокровному арийцу» хоть кол на голове теши. Обед был кончен, и я откланялся.
Нападение Германии на советскую Россию оживило надежды многих эмигрантов. Первой их мыслью было: коммунистам конец.
Понятно, что немало русских встало на сторону наци. Решили, что можно возобновить борьбу с большевизмом, и завербовались в немецкую армию кто бойцом, кто – переводчиком.
Такое ж отношение к немцам было поначалу и в России. Стали приводить в исполнение секретный план: армию за армией сдавали почти без боя. И оккупационные войска население встречало хлебом-солью. Люди проклинали Коминтерн и в оккупантах видели освободителей.
Через несколько месяцев все изменилось. Немцы, как всегда, совершили психологическую ошибку: были по отношению к русским жестоки. И в России их возненавидели еще пуще, чем большевиков.
Ужасна была участь пленных красноармейцев. Совдепия считала их предателями, Германия – врагами. Гибли они поголовно от голода, болезней, зверского обращения. Из тех, кто выжил, составилась армия под командованием генерала Власова. Власовцы били красных, а потом освободили от немцев Прагу. В конце войны генерал сдался американцам, американцы сдали его большевикам, большевики – судили и повесили.