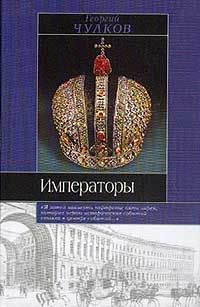Ознакомительная версия.
Это была превосходная критика демократических начал. Но спрашивается, чего же хотел сам Победоносцев? В своем глубоко меланхолическом и безнадежном "Московском сборнике" Победоносцев молчит упорно о том, что, собственно, он предлагает в качестве положительной программы. Мы узнаем ее не из его книги, а из фактов. Никаких новых форм земской жизни, суда и школ не было создано. Была грубая попытка вернуться к сословие привилегированному строю на местах; к дореформенному суду, развращенному взятками и нравственно прогнившему насквозь; к водворению старых полицейских начал в высшей школе; к казенной и мертвой системе преподавания в школах средней и низшей… Никакого творчества! Ничего цельного, органичного и вдохновенного! А ведь он, Победоносцев, требовал "органичности"… Вместо этой желанной цельной жизни водворилась бездарная казенщина петербургских канцелярий.
Таковы были результаты победоносцевской ворожбы. Обер-прокурор Святейшего синода вместо "духовных" начал, о коих он неустанно говорил царю, привил русским людям такой циничный нигилизм, какой и не снился его предшественникам на этом поприще. Решительно все прекрасные слова были обезображены его прикосновением. И надолго русские люди разучились верить в эти прекрасные слова, памятуя о победоносцевском лицемерии. Жалкий лгун, говоря о добром народе, он радел об интересах привилегированных… Его книга, написанная как будто довольно складно, лишена всякого живого дыхания. От ее страниц веет смертью. Это — какой-то серый холодный склеп. В Победоносцеве была страсть, но это была какая-то странная, холодная, ледяная, колючая страсть ненависти. Все умирало вокруг него. Он, как фантастический паук, раскинул по всей России свою гибельную паутину. Даже князь Мещерский ужаснулся и сказал, что он "страшный".
Ревнители старого порядка и поклонники Победоносцева гордятся тем, что он был "православным". Но и это ложь. Замечательно, что Победоносцев не знал ни духа православия, ни его стиля. Если б он знал православие, он не переводил бы популярную, но сентиментальную и, с православной точки зрения, сомнительную книжку Фомы Кемпийского; он не распоряжался бы епископами, как своими лакеями; не душил бы казенщиной духовные академии, которые, кстати сказать, насаждали в это время у нас рационалистическое немецкое богословие… Его настоящая сфера была не церковь, а департамент полиции. Жандармы и провокаторы были его постоянными корреспондентами. Однажды попечитель одного из учебных заведений жаловался на священника-преподавателя, который был, по его мнению, "безнравственный и неверующий". На это Победоносцев ответил: "Зато он политически благонадежный!" И священник остался.
Победоносцев вмешивался не только во все сферы политики: он зорко следил за экономической и финансовой жизнью страны. По каждому вопросу у него были свои мнения. Дело об элеваторах его интересует, например, едва ли не больше, чем дела церкви. Он пишет царю письма и записки по этому поводу. И, конечно, это не единственное дело в этом роде. Министр финансов Н. К. Бунге, оставшийся на своем посту до 1 января 1887 года, неоднократно должен был отражать нападения Победоносцева, правда, часто косвенные, а не прямые, как это было, например, с известной "запиской" Смирнова. В конце концов он должен был уйти, и его место занял профессор и делец И. А. Вышнеградский. При нем были ограничены либеральные мероприятия его предшественника — прежде всего круг деятельности фабричной инспекции. Приходилось поддерживать развивающуюся промышленность, но у нее был беспокойный спутник — рабочее движение. И Победоносцев с ужасом следил за его развитием. Уже первые этапы его приводили в трепет цербера нашей реакции. Он знал, что в 1883 году организовалась группа "Освобождение труда", где работали Плеханов, Аксельрод, Засулич, Дейч. Он знал о стачке 1885 года в Орехове-Зуеве, на Морозовской фабрике, и следил вообще за стачечной волной, которая на недолгий срок затихла в 1887 году, когда миновал промышленный кризис. В 1890 году ему доносили о социал-демократической пропаганде на Путиловском заводе, в 1891 году — о первой маевке под Петербургом, в 1893 году — о забастовке на Хлудовской мануфактуре в Егорьевске Рязанской губернии, о беспорядках в железнодорожных мастерских в Ростове-на-Дону и, наконец, в последний год царствования — о забастовках в Петербурге, в Москве, в Шуе, в Минске, в Вильнюсе, в Тифлисе.
Та великолепная "сила инерции", на которую так надеялся Победоносцев, изменила ему. В душной и косной стихии вдруг началось какое-то странное движение. Он прислушивался к ропоту каких-то подземных волн, не понимая, откуда они. И вот тогда, в поисках неведомого врага, взоры Победоносцева и Александра III обратились на евреев. Не они ли то опасное бродило, которое вызывает эту ужасную смуту? По-видимому, Александр и его временщик не были одиноки в этом мнении. Огромной волной по всей России прошли еврейские погромы — иногда при содействии полиции. Войска неохотно усмиряли погромщиков, и когда на это пожаловался царю генерал Гурко, Александр Александрович сказал: "А я, знаете, и сам рад, когда евреев бьют". Заговоры все еще мерещились царю. И для этого были основания. Он вспомнил, как на третий год царствования был убит Судейкин. Царь тогда надписал на докладе: "Потеря положительно незаменимая! Кто пойдет теперь на подобную должность!" Он вспоминал также об аресте Веры Фигнер.
Царь, узнав об ее аресте, воскликнул тогда: "Слава Богу! Эта ужасная женщина арестована!" Ему доставили ее портрет, он подолгу смотрел на него, не понимая, как эта девушка, с таким тихим и кротким лицом, могла участвовать в кровавых замыслах. А потом это памятное 8 мая 1887 года, когда были повешены пять террористов и среди них этот Александр Ульянов, о свидании с которым накануне казни так хлопотала его мать…
Некоторые думают, что в иностранной политике Александр III был самостоятелен, что министр Гире скорее был его личным секретарем, чем независимым руководителем нашей дипломатии. Но к чему сводилась наша тогдашняя политика? Она была совершенно пассивна, и если мы не понесли за тринадцать лет этого царствования никакого ущерба, то это еще вовсе не доказывает высокой мудрости Александра III. Очень может быть, что, доживи император до 1903 года, ему пришлось бы вести Японскую войну, и ее финал, вероятно, был бы тот же, что и при Николае II. Ведь система была та же и люди те же. А наше неудержимое стремление на Дальний Восток (такое естественное, надо сказать) началось при Александре III, и оно тогда уже было чревато последствиями. Что касается успехов Скобелева в Средней Азии и взятия Мерва — это, можно сказать, совершилось без всякой инициативы со стороны Александра Александровича. Кампания началась при Александре II; и если Александр Александрович сумел при этом избегнуть столкновения с англичанами, оказавшимися нашими опасными и ревнивыми соседями со стороны Афганистана, то это не менее заслуга миролюбивого Гладстона, чем Александра III. Если бы в то время в Лондоне у власти были консерваторы, была бы у нас война с Англией. Наше равнодушие к приключениям в Болгарии князя Александра Баттенбергского едва ли можно рассматривать как великую дипломатическую стойкость. И, наконец, франко-русский альянс, который в конечном счете привел нас к мировой войне, теперь никак уж нельзя признать актом большой политической дальновидности. Нет, наша иностранная политика при Александре III была такой же сонной, косной и слепой, какою была вся тогдашняя политическая жизнь страны.
Ознакомительная версия.